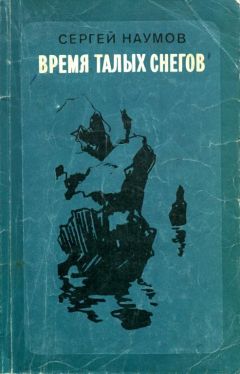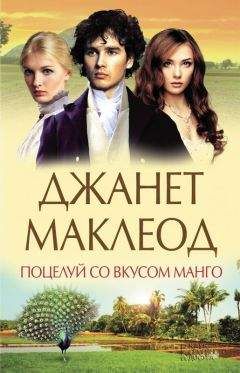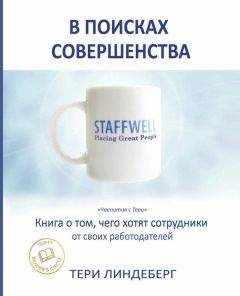Некоторые слова, впрочем, не достигали моего слуха, однако тут же восполнялись музыкальной фразой — ибо музыка участвовала в нашем разговоре, как равноправный собеседник, и порой решительно изменяла его направление. Например, под быструю музыку мы беседовали больше о жизни и быте — о детстве, о коллекциях марок и конфетных фантиков, о школе и экзаменах. Тут Валерий, надо заметить, не блеснул оригинальностью, а двинулся по проторенному пути, рассказав к школьной теме пару анекдотов об учителях. (В таких случаях Римус мгновенно подбирается и, сузив глаза, говорит противным голосом: «Спасибочки, премного благодарны!» Но я-то ведь не Римус. И, собственно говоря, вообще не учительница! Так что вполне могу позволить себе посмеяться в нерабочее время и в нерабочем месте.) И блюда нам тоже подавали под быструю музыку. Я оценивала их чисто внешне: вот бело-желтые кружочки горкой на темной тарелке, а вот — коричневатые пластинки с зеленой каймой. Ощущала я, впрочем, также их температуру и консистенцию: некоторые приятно холодили и таяли во рту, другие же требовалось разжевать, стараясь не обжечься. Не способна я была в этот вечер только оценить их вкус, а также понять смысл и назначение процесса жевания.
Под медленную же музыку мы говорили о душе и смысле жизни. И, конечно, о литературе. О героях и героинях. Валерий полагал, что искать их автор должен годами, кропотливо и неустанно, как ищет свою жилу золотоискатель. Я же со своей читательской колокольни не видела в этом большой проблемы. Мне в герои вполне годился осветитель Прохор. И я сочла момент вполне подходящим, чтобы высказать Валерию некоторые свои предложения относительно его дальнейшей судьбы. Он слушал меня сначала с рассеянной улыбкой, потом повнимательнее и в конце концов, нахмурившись, спросил с тревогой:
— Так его же с работы уволили?
— УВОЛИЛИ! Как уволили, так и обратно пригласят! — вскинулась я. — Подумаешь, президентское кресло! Венец карьеры!
Он хмуро задумался и надолго замолчал, невидяще глядя перед собой. Я затаила дыхание. Быть может, судьба и счастье Прохора, верного друга моей юности, решались в эти секунды! Кажется, я уставилась на Валерия умоляюще. Кажется, даже тронула его за рукав. По крайней мере он вдруг очнулся от своей задумчивости, сжал мою руку сильной и теплой ладонью и властно повел меня танцевать. И, обняв меня за талию, проговорил в самое ухо:
— Мечта каждого автора — найти своего читателя. А каждого Мастера — встретить свою Маргариту!
Хотела бы я знать, какие экстренные меры для спасения рассудка могут быть предприняты в такой момент?
И как прикажете вести себя человеку, мечты которого ни с того ни с сего принялись исполняться одна за другой безо всякого вмешательства фей, золотых рыбок и иных представителей потусторонних миров?
Говоря о моем семейном положении, как близкие мне, так и посторонние люди время от времени произносят одну и ту же фразу:
— Марина Анатольевна! (Марина! Марыся!) Да ведь вы же (ты же) свободная женщина!
Интересно, что у каждого из них это словосочетание звучит по-своему.
Со временем я научилась различать в понятии «свободная женщина» как минимум шесть таких наиболее явных значений, как:
а) полновластная хозяйка своей судьбы;
б) женщина передовых взглядов;
в) не совсем нормальный человек;
г) особа легкого поведения;
д) вместилище всех мыслимых пороков;
е) опасное существо вроде гремучей змеи.
Надо сказать, с годами я научилась относиться к этим вольным толкованиям сравнительно спокойно. Но все же полагаю, со своей стороны, что ни одно из вышеперечисленных определений не имеет ко мне ни малейшего отношения (кроме разве что третьего пункта — в том смысле, что идеально нормальных людей не существует в природе). А что касается личной жизни, то тут свободная женщина отличается от семейной, по моим наблюдениям, разве что меньшей предсказуемостью встречающихся на ее пути нестандартных личных ситуаций.
При всем желании я не могу причислить себя к натурам страстным, темпераментным или, как именуются в школе парочки, норовящие уединиться в тупичке у спортзала, озабоченным. И, однако, если бы мне пришло в голову вести дневник своих любовных похождений, он получился бы, пожалуй, довольно содержательным. Беда лишь в том, что все мои романы напоминают произведения школьной программы в кратком изложении: то, что должно представлять собой толстый том, умещается в несколько страниц. Наверное, потому, что после двух-трех встреч я обычно без особого труда различаю за текстом реплик нового поклонника как подтекст, так и общую композицию, а также главную мысль. После чего за дело обычно принимаются мои ноги…
Разумеется, потом, на досуге, я имею полную возможность всесторонне проанализировать очередную попытку лавстори и вывести из своих размышлений массу выводов, гипотез и туманных предположений типа «А может быть…», «Вот если бы не…» и «Наверное, лучше было бы…».
Однако и в следующий раз действия развиваются по точно тому же сценарию!
По крайней мере так было до сих пор…
— Лежи. Я сварю кофе, — сказал он.
Нет, не сказал, а приказал!
Я на секунду закрыла глаза, вслушиваясь в эти властные ноты, а потом послушно отодвинулась к стенке и натянула до носа желто-коричневый плед.
Вообще-то я совершенно не собиралась вставать. Мне не хотелось даже шевелиться. Одно-единственное желание обуревало меня сейчас — растянуть до бесконечности эту минуту, когда все только началось и ничто еще не осквернено ни пошлостью, ни бытом, ни каким-либо иным сюрпризом судьбы.
Как замечательно было бы навсегда запечатлеть, увековечить этот миг — в виде картины, или кинопленки, или серии фотоснимков!
С осторожной и печальной жадностью я оглядывалась вокруг. Кто знает, на какое время дано мне это блаженное забвение! Я чувствовала себя избранницей, принцессой, королевой… прима-балериной. Мысли в голове путались. Комната это или сцена? Книга или жизнь? Прохор или Валерий варил кофе для меня? Нет, для нас… для нас!
Меня трогали до глубины души вот эти серенькие занавески! А стол? Впервые в жизни я видела настоящий писательский стол — беспорядочную гору мятых бумаг, раскрытых и закрытых книг, торчащие отовсюду концы ручек, стержней и карандашей. В центре, разумеется, возвышалась пишущая машинка — этакий симпатичный мастодонт с воинственно оскаленными клавишами. И пожелтевшие эти клавиши наводили на мысль о творческих муках и открытиях, о безумном вскакивании и стуке среди ночи, о яростном треске рвущейся бумаги и негромком чтении новой главы друзьям, рассевшимся вокруг — кто на кресле, кто на полу, а кто на этом самом диване. (Так и есть! Диван украшала роскошная бахрома — след кошачьих когтей!)