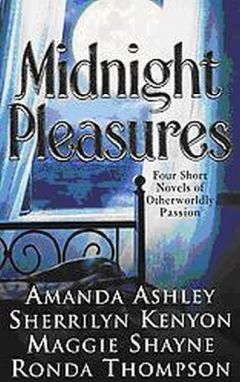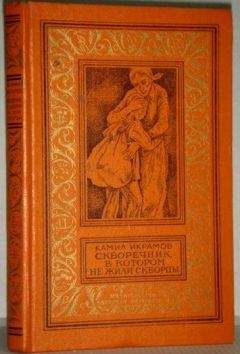Слишком рано, слишком быстро.
Лёшка… не торопи меня, пожалуйста».
И мечутся ласточки, снуют — то взлетают проворно к небесной мельнице, то падают угольками, опалив крылышки огнём, который мелется в жерновах. Разве ж там может быть обычная мука? Беспечные ласточки дорого платят за свои ошибки. Вдумчивые закаляются — и даже ревность богов становится им нипочём.
* * *
— В общем, всё я вам сказала, Олеся, думайте теперь. Судя по рецензиям, мысли вы излагаете связно, да и суть хватаете. А тут вам и материал для диплома, и практика, и заработок. И вообще… будущему редактору надо вкусить журналистского хлебушка, — преподавательница улыбнулась.
Да бог с ним, с заработком — а вот работать, работать! Вот по чему Лиса соскучилась — а ведь до нынешнего вечера даже не представляла, насколько.
— Спасибо, Ирина Борисовна. Я — с радостью! А когда надо?
— Как обычно — вчера. Шучу, шучу, — предупреждая огорчение, которое стремительно начало рисоваться на Олесином лице, преподавательница помахала ладонью. — Нужен материал о жизни современного студента. Форма, стиль — на ваше усмотрение. Чем раньше, тем лучше, конечно. Первый номер выйдет в конце января, так что…
Торопливо — хоть и недолгим был разговор с преподавательницей, но когда ты привязана к электричке, каждая минута на счету — Олеся вышла из ворот института на Садовое кольцо. Привычно свернула направо к метро и… перед открывшейся картиной невозможно было не замедлить шаг. Уличные фонари почтительно склонили головы перед вступившей в город полярной королевой и перламутровыми коврами осветили её путь. Верная свита шествовала следом, выплывая из темной выси, и вились мотыльки с крыльями цвета молока над плечами редких прохожих и таяли, едва прикоснувшись к тёплому ещё асфальту. Он вымок и блестел глянцево — и кружилась над зеркальным паркетом Москва, и красовалась в зимнем наряде, и лукаво улыбалась обновке.
И таким вдруг ясным показалось всё… рвусь куда-то, мечусь, хожу всё время, то так, то эдак высовываясь за грань — а зачем? В этом ли ум, в этом ли сила? Всё время проверять себя на прочность — кому и что я этим докажу? Папе — сумела, мол, вырасти человеком?! Маме — а вот она я, могу без помочей?! Так это не на раз доказывается и даже не на два, а каждый день — и именно тем, что находишь в себе силы жить, как бы ни трудно это было. Жить, Лиса, жить. Свой образ смерти ты уже нашла — так найди уже образ жизни, а?
Жизни… Она подхватилась и бегом припустила навёрстывать время — нельзя опоздать на электричку, Лёша же придёт встречать к платформе! Кубарем скатилась Лиса по эскалатору в блеск и гулкую пустоту вечерней подземки. Уже не осталось иных мыслей, кроме «Успеть!» — она терпеть не могла опаздывать: ведь точность — роскошь, доступная даже королям. К тому же — ну можно ли мучить человека ожиданием, ведь не по-человечески же так, в конце концов! На днях Лёша очень терпеливо выслушал Олесины теоретические разглагольствования на эту тему и разом отмёл все её сомнения:
— Не бойся к другу опоздать, кто любит, тот умеет ждать.
Как же оно согревает — чувствовать, что никогда к нему не опоздаешь, всегда будешь вовремя. А всё же — на электричку надо успеть!
* * *
Влажно и таинственно мерцал асфальт и растворялись на его полотне оранжевые, красные и жёлтые огоньки редких машин. Дорога текла, покоряясь изгибам ландшафта. То крыши поселков рисовались чёрным на чёрном, то брали на караул деревья и угрюмо смотрели вслед разбудившему их автомобилю.
Почти не встречалось дальнобойных фур, и Сашка гнал, наслаждаясь покорностью лакированной брюнетки «Мерседес» и вибрирующей мощью её горячей утробы.
И опять — скорость, и опять — ночь, и опять рядом друг, с которым так здорово делить труд и отдых, трассу и покой.
Когда стартовали из Питера, в воздухе копошилась мелкая морось, а после Валдая дождик перешёл в мокрый снег.
— Скворец, сбавь чуток — в низинках скользко. Только тормози движком — а то улетим.
Ну, Сашка и сам знал… но одно дело знать самому, а другое — когда дружеский пинок об этом знании напоминает. Скворцов кивнул, и стрелка спидометра указала на чуть успокоившую Кота сотню.
Кирка домусолил бычок до мундштука, а когда затлел и тот, щелчком отправил скончавшуюся беломорину за борт. Подумал ещё, вслушиваясь в мерный гул мотора, да и всунул в повидавшую виды походную «Соньку» кассету с «ДДТ» — сборничек из записей разных лет как раз между рейсами успел смонтировать. Да ещё в той последовательности, какую сам думал.
Пока моталась пауза, выжидательно смотрел на Сашку.
Гитарный аккорд, и:
— Когда идёт дождь…
Сашкины губы одобрительно сжались. А у Кота отчего-то потеплело на сердце.
— Когда в глаза свет проходящих мимо машин…
Друзья кивнули одновременно. Втянули тёплый воздух салона и тихо подпели Шевчуку:
— И никого нет…
…только дождь, венки на придорожных столбах, белые овалы с нездешними уже безднами взглядов, да покорёженные части автомобилей — памятники ушедшим, обереги живущих. Это тоже — дорога. Неотделимая её часть. Как и смерть — неотъемлемая часть жизни.
Яростный и могучий инстинкт, который помогает нам жить, конечно, сопротивляется ей, всесильной бессмертной гадине, но когда наступает пора… Когда наступает пора — надо ли спорить? Если уже нет сил бороться, творить, согревать тех, кто рядом — надо ли?
Не лучше ли, как чуткие и мудрые звери в предчувствии конца, уйти одному невесть куда и спокойно дождаться, когда она придёт взять своё? Без гнева принять её, но зная — не пройдёт и года после, а здесь заколышутся трава и цветы, в гнёздах защебечут птенцы, а талые воды понесут миру отзвуки спетой тобой песни.
Но пока срок твой ещё не настал — дерись! Живи! Гони костлявую во все позвонки! Смейся ей вслед, хохочи торжествующе, и люби, неистово и самозабвенно люби самое лучшее, что только может приключиться с тобой — люби жизнь. До последнего вздоха — люби.
— Третью жизнь за рулём, три века без сна…
Это — да. У меня уже хронический недосып.
Угу. Ещё одно романтическое знакомство вдобавок к тем двум — вернейшее средство от недосыпа! Вот у меня — и правда недосып. У меня семья! И ребёнок будет… Для них вот и стараюсь.
А я, может, идеал ищу?!
Не бывает идеалов, Кирка. Мы все живые люди, и в каждом живёт и хорошее, и плохое. Вопрос только в мере того и другого.
— Заливают наши сердца серым дождём…
А помнишь, Сашка, тот дождь, тот нескончаемый августовский дождь, когда я зашёл за тобой, и мы ушли в его серую пелену. Ты ещё сказал тогда: «Леська, маме — ни гугу!» Она кивнула тогда этак заговорщицки, но потом долго переживала, что не успела нам бутербродов напихать? А к чему нам с собой их было тащить — там тётеньки из окрестных домов всё приносили. Помнишь, была там одна — вся из себя графиня, не меньше! С причёской такой высокой и каким-то акцентом. Но говорила — заслушаешься! И когда только она успевала себе такие укладки делать — весь почти всё время челночила. То нашей группе хлеба и молока приносила, то соседней цепочке, что поодаль стояла.