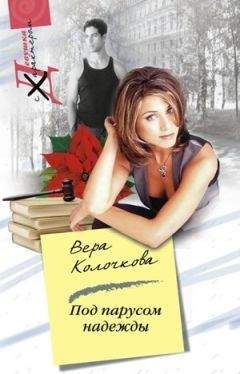– Ладно. Подумаем. Спасибо. Иди спи. Я пока посуду помою. Да, вот еще что! Где у вас инструменты лежат?
– Какие инструменты? Зачем тебе?
– Хозяйство твое домашнее хочу подправить немного. Сразу видно – мужской руки в доме нет. Краны текут, дверка от шкафа скоро на голову свалится…
Проспала она, как ни странно, долго. Наверное, тот самый приступ беззаботности, напавший на нее совершенно некстати, сделал свое нехорошее дело. Или, наоборот, хорошее. Потому что выплывать из этой счастливой беззаботности – и совершенно не важно, откуда она взялась, – не хотелось совсем. Глубоко вздохнув, она перевернулась на спину, открыла глаза, потянулась всем своим сильным и молодым организмом. Раскладушка скрипнула под ней возмущенно – поосторожнее, мол, девушка, ишь, разрезвилась!
В куске неба, видимом с балкона, стояли белые облака. Пухлые, сытные, аккуратные, счастливо-равнодушные. Никуда не плыли, просто замерли на месте, взирая на землю в праздничной нарядной лености. Из-за закрытой балконной двери плеснуло вдруг уютным запахом – домашним и вкусным. Умопомрачительным просто. И снова поднялось, зашевелилось что-то незнакомое внутри, емкое, счастливо дрожащее и будто по спирали еще более того нарастающее, и снова захотелось потянуться – так, чтоб заныло тело каждой косточкой, и улыбнуться еще шире, и жить дальше… И не просто жить! А жить с этим незнакомым и теплым ощущением внутри себя…
А дальше время пошло, вернее, побежало совершенно незаметно. Быстро ускользало часами-минутами, как песок меж пальцев. И в то же время текло вязко в своей бытовухе-обыденности. Как упражнение физкультурное – бег на месте. Вроде бежишь, вроде устаешь, а на самом деле – на месте стоишь и даже на сантиметр с него не сдвинулся… Вот что они такого в этом остатке субботнего дня совершили? Ничего особенного и не совершили. Ну, Егорку в ванной искупали. Хорошее дело, конечно. Кира потом тащила его, мокрого и брыкающегося, и чуть не упала, запнувшись о рассохшуюся и выступившую из общего ряда паркетину. Свалилась с ним на диван – обхохотались оба… Потом солянку фирменную Стасову ели. Успел-таки приготовить, пока она на балконе спала. Когда стемнело, вывели Егорку погулять ненадолго – при дневном свете побоялись. Потом его спать укладывали. Потом опять на кухне сидели – говорили без умолку полночи, вино сухое белое пили…
И поздним воскресным утром она проснулась, будто толкнули ее изнутри чувства вчерашние и немного странные – глупая радостная беззаботность да необъяснимая дрожащая счастливость. Никогда с ней такого легкомыслия не случалось, даже в детстве. А тут – поди ж ты. Прямо птичка певчая, которая не знает ни заботы, ни труда… И утро, хоть и позднее, было ярким и звонким. Тоже птичьим. И пахло росой и ромашкой из хилого доморощенного газончика под балконом. А из-за дверного стекла озабоченная Егоркина мордашка выглядывает – губки бантиком, бровки домиком… Она помахала ему рукой весело – заходи, не бойся!
– Ой, тетя Кира, ты проснулась! А мы с папой тихонько сидим, чтоб тебя не разбудить! Он сказал, что тебе выспаться нандо!
– Ага! Нандо, нандо! – тихо засмеялась Кира, садясь на раскладушке. – Зачем опять в слово буковку лишнюю вставил?
– А так же лучше говорить – нандо! Ты послушай сама – так звонче получается! Там как раз буковки этой не хватает… А без буковки слово совсем какое-то скучное получается, правда?
Кира только руками развела в ответ – ну что на это ребенку возразишь? Вроде и правда – скучное. И вообще – может, из него, из Егорки, поэт потом вырастет? Или писатель? Или другая какая творческая личность? А что, вполне может быть! Вот же придумал – слово ему скучное…
– Пойдем на кухню, папа тебе кофе будет варить! С этой, с как ее, я забыл…
– С корицей, – просунулось к ним на балкон улыбающееся лицо Стаса. – Ты когда-нибудь пила кофе с корицей?
– Не-а… – помотала лохматой головой Кира, потягиваясь. – Только можно, я сначала под душ, а потом уж буду эти ваши… Какао с чаем…
Опять время перевернулось и потянулось счастливой вереницей часов и минут. Длинное время. Короткое время. Странное время. Время, сплетенное из обыденных действий и ничего не значащих слов, и коротких взглядов, пронзительных и острых, когда сжимается горло и опускаются вниз глаза, чтобы спрятать подальше неловкую улыбку. Хотя и попробуй спрячь-ка ее, эту улыбку! Она ж все равно выползет – совершенно дурацкая и нелепо дрожащая. А это случайное соприкосновение рук – это же вообще сплошное получается наказание, господи! Попробуй выдержи его, и не дернись, как током пробитая, и не «покрасней удушливой волной» после этого вдруг соприкосновения…
Гулять вечером не пошли – дождь зарядил. Теплый, июльский, свежий. Сидели втроем на диване, уставившись в экран телевизора, смотрели старый фильм про человека-амфибию, влюбленного в девушку красоты необыкновенной. Внимательно смотрели. Стас протянул руку, накрыл теплой ладонью ее ладонь, и сердце дернулось, и застучало припадочно, и зазвенело… Или не зазвенело? Или… Что это так звенит? Так неправильно, так настырно… Господи, так это же в дверь звонят!
Кира подскочила с дивана как ужаленная, побежала в прихожую, но на полпути остановилась, оглянулась на своих гостей испуганно. Егорка тут же обезьянкой вскарабкался на отца, обхватил его шею руками. Затих. Только спина маленькая под отцовской рукой подрагивала. В темноте не видно было, конечно, но Кира уже знала, что она дрожит, эта маленькая спина. Чувствовала. Она ж была ей уже не чужая – она ж Егоркина была…
Подкравшись на цыпочках к двери, она осторожно заглянула в дверной глазок. Кирилл. Лицо довольное, улыбающееся. Мокрые волосы ежиком. В руках – корзинка с клубникой. Господи, у нее когда-то был бойфренд Кирилл! Сын адвоката Линькова! Хотя почему был… Он и сейчас есть. Куда его девать-то? И что делать? Открыть ему, что ли? Он ехал к ней, ягоды вон вез…
Руки не поднялись, чтобы открыть дверной замок. Воспротивились. Не захотели. Вцепились ладонями одна в другую и не захотели. Стыдливо опустив голову, она прокралась обратно в комнату, тихо села на диван, замерла. А Кирилл все звонил, звонил настойчиво, и они сидели втроем и слушали эти звонки, пока последний из них не оборвался на коротком обиженном всхлипе. А потом подал голос ее мобильник. И тоже звал ее к себе настойчиво – как плакал. Нет, ну зачем она так с ним, с Кириллом? Может, и не надо было… Может, стоило его впустить, стоило рассказать грустную судебную Егоркину историю, и они бы придумали чего-нибудь – уже втроем… Правда, Кирилл покапризничал бы для виду, а потом обозвал бы ее обязательно «Машей с морковкой». Ну и что. И пусть. Все равно бы он помог, если б она на этой помощи настояла. Тоже поиграл бы в доброго самаритянина под ее чутким руководством. Хотя – нет. Не надо ей никакой игры, и руководства тоже не надо. Не пустила, и правильно. Потому что у них здесь, в этой ее квартирке, уже никто в добрых самаритян не играет. Здесь, похоже, свое, обособленное действо начинается. Под названием – другая жизнь…