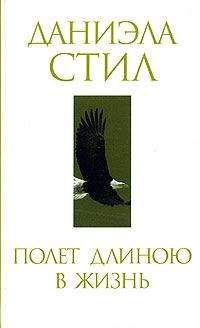Когда громкоговоритель объявил, что посадка на рейс до Нью-Йорка заканчивается, Джо наклонился и поцеловал Кейт, сознавая, что сдерживаться и подавлять свои чувства уже поздно. Поздно и бессмысленно. То, что случилось, было, наверное, неизбежно. И, что бы ни связывало их теперь, оба знали: эти чувства относятся к разряду уникальных, единственных в своем роде, неповторимых — таких, что ни измерить их, ни забыть, ни обрести вновь с кем-то другим им не удастся, как бы они ни старались.
— Береги себя, — проговорил Джо хриплым шепотом.
— И ты тоже будь осторожен… Я люблю тебя, — снова повторила Кейт, глядя ему прямо в глаза.
Джо молча кивнул, не в силах найти слова, чтобы выразить переполнявшие его чувства, — ведь именно этих чувств он старался избегать на протяжении всей своей сознательной жизни. Потом он снова поцеловал ее — поцеловал в последний раз, потому что им пора было расставаться. Ему было нелегко выпустить Кейт из своих объятий, но он пересилил себя и, круто повернувшись, побежал к воротам, которые уже начали закрываться. Однако перед самыми воротами он остановился и обернулся. Кейт смотрела ему вслед, по ее лицу снова струились слезы, но она их даже не вытирала, хотя в руке ее белел скомканный платок. И тогда, пока не стало слишком поздно, Джо громко крикнул:
— Я люблю тебя, Кейт!
И она услышала его, и помахала зажатым в руке платком, и засмеялась сквозь слезы.
А уже в следующую секунду Джо исчез за закрывшимися Воротами, за которыми сверкало огнями летное поле аэродрома.
Рождество тысяча девятьсот сорок первого года было совсем не веселым. Всего две с половиной недели прошло со дня трагедии Перл-Харбора, однако многие тысячи молодых американцев уже отправились в Европу и на Тихий океан. Названия городов, крошечных островков и местечек, о которых раньше никто и слыхом не слыхивал, были у всех на устах, и Кейт утешалась только тем, что Джо находится в Англии — цивилизованной стране, где ему все знакомо. И действительно, если судить по единственному письму, которое она получила от него с одним из морских конвоев, условия жизни там мало отличались от тех, которые были у него в Калифорнии.
О том, чем он занимается, Джо писал совсем мало — не больше того, что позволяла строгая военная цензура. Можно было подумать, что он только и делает, что знакомится с новыми людьми, ходит в столовую и играет в крикет — игру, которую Джо назвал благородным предком демократического американского бейсбола. Общий тон письма показался Кейт довольно оптимистичным, однако сквозь него проглядывало беспокойство о ней. Но о своей любви Джо не написал ни слова. Один раз он сказал об этом прямо и, очевидно, считал недостойным возвращаться к этому снова и снова, особенно в письмах, которые могли прочитать — и читали — посторонние люди.
К этому времени родители Кейт уже догадались, что их дочь влюблена в Джо, и единственным утешением им могло служить то, что и он, судя по всему, тоже ее любит. Однако, оставаясь с мужем наедине, Элизабет не скрывала своей озабоченности. Теперь, когда с Джо могло случиться все, что угодно, ее тревога стала особенно глубокой. Элизабет опасалась, что Кейт будет оплакивать его до конца своих дней, так как Джо, безусловно, был из тех мужчин, которых не легко забыть.
— Я не хочу каркать, — ответил ей однажды Кларк, — но если что-то действительно произойдет, Кейт в конце концов сумеет это пережить. Я в этом уверен. Подобное случалось со многими женщинами до нее, и большинство из них справились… И Кейт тоже справится. Конечно, лучше бы у Джо все было благополучно, однако ты сама понимаешь: на войне от гибели никто не застрахован.
Однако Элизабет пугала не столько война со всеми ее опасностями, сколько что-то, что она уловила в характере или, вернее, в душе Джо. С самой первой их встречи это «что-то» смутило ее, однако она никак не могла подобрать подходящие слова, чтобы поделиться своей тревогой с мужем. У нее было такое ощущение, что Джо просто не способен на чувство по-настоящему глубокое, что он не может, да и не хочет отдаться любви полностью, без остатка. В его сердце как будто существовали потаенные уголки, доступ к которым был закрыт даже для самых близких людей. Что же касалось его любви к авиации, к самолетам, которые он сам проектировал и на которых летал, то Элизабет видела в этом не только дело, которому он сознательно посвятил себя. Ей казалось, что для Джо это способ убежать, спрятаться от обычной жизни, в которой он усматривал какую-то лишь ему одному ведомую угрозу. Вот почему она была далеко не уверена, что, даже если Джо удастся невредимым вернуться с войны, он сумеет сделать Кейт по-настоящему счастливой.
Кроме того, Элизабет беспокоило то необычно сильное чувство, которое до странности быстро и крепко соединило ее дочь с этим нелюдимым, довольно угрюмым, одержимым человеком. Оно казалось ей противоестественным, гипнотическим, почти колдовским. Кейт и Джо, бесспорно, были абсолютно разными и все же подходили друг другу, словно две половинки разрезанного пополам яблока. Элизабет считала, что каким-то образом — каким, она и сама не могла понять, как ни старалась, — они представляют друг для друга нешуточную опасность. Во всяком случае, их любовь пугала Элизабет сильнее всего остального.
Между тем наступил день, на который был назначен первый бал Кейт, но она ни капли не жалела о том, что он так и не состоялся. В конце концов, это была скорее формальность, чем настоящий праздник. И все-таки в этот день ей было особенно грустно. Чтобы отвлечься, она взяла книгу, необходимую для письменной работы по истории, и в этот момент ей позвонил Энди Скотт.
Большинство молодых людей, которых Кейт знала, к этому времени уже разъехались — кто в учебные лагеря, а кто и прямо на фронт, и только Энди остался в Бостоне. Он сам объяснил Кейт, что еще в раннем детстве у него обнаружили в сердце посторонние шумы, и хотя они ему не мешали и никак не отражались на его здоровье, призывная комиссия, куда он ходил трижды, его забраковала. Как с горькой усмешкой сказал Энди, его могли поставить под ружье только в случае, если на всей территории страны не останется больше никого, кроме девяностолетних стариков, безногих инвалидов и младенцев. Но хотя причина, по которой он не попал в армию, была вполне уважительной, Энди продолжал чувствовать себя неловко — ведь с виду он оставался здоровым, крепким парнем, которому самое место в окопах. Однажды он признался Кейт, что иногда ему хочется повесить на шею табличку, на которой была бы написана статья, по которой ему отказали в призыве, но добавил, что даже с такой табличкой он продолжал бы чувствовать себя предателем.