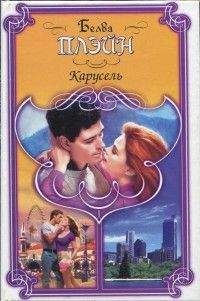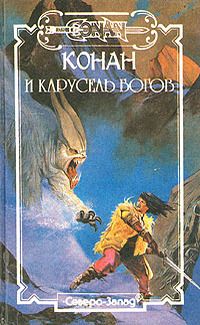— Ничего! Со мной можешь не бояться, — заявил Алька, закидывая руку Эле на плечо.
Это уже была наглость. Эля оттолкнула Овсянкина, тот пропал за тюками.
— Ну почему? — обиженно отозвался он из темноты. — Может, ты мне нравишься? Общие интересы должны соединять людей.
— Считай, что нас отталкивают, — проворчала Эля.
Лучше бы она сюда одна пришла. Замучил ее уже Алька со своими приставаниями.
— Ну почему нет? Почему? — допытывался Овсянкин с настойчивостью долота. — Может, я в тебя влюблен. А ты пихаешься.
— Потому! — бесилась Эля. — Не нужны мне никакие привязанности! Понял? Я и без них хорошо проживу! И вообще — любви не существует!
— Как это — не существует? А что тогда существует?
— Ничего. Может быть, дружба.
— Только что рассказывала, что влюблялась.
— Не влюблялась я. И никогда ни в кого не влюблюсь. Глупость это. Для малолеток.
— Да ладно!
Алька держался на приличном расстоянии, чтобы Эля не могла его достать. Второй раз падать между тюками не хотелось.
— Не нужна никому эта любовь, от нее одно вранье и предательство.
— А как же лошади?
— Лошади — тоже предают.
— Они-то чем тебя обидели? Сиди крепче в седле — падать не будешь.
— Они умирают.
— Ты совсем свихнулась? Разве они виноваты в смерти?
— Виноваты!
— Не ори! — возмутился Алька и снова зашуршал сеном — то ли подползал, то ли отползал. Сено и шуршание заполнило все вокруг, было уже непонятно, кто и где находится. — Лошади у нее предают, люди… Одна ты ангел.
— Да, ангел! Я никого не предала и не обманула. А они все — предатели.
— Да с чего предатели-то? С чего?
— С того! Они уходят.
— Кто?
— Все!
Она лезла через бесконечные тюки с сеном — хотелось свежего воздуха, а не этой душной головокружительной пыли. Ладони болели от уколов, удачно подвернувшейся соломинкой чуть не ткнула себе в глаз. В конце концов она провалилась между тюками и застряла.
— Ты не человек, а терминатор какой-то! — вздохнул Алька.
— Это ты не человек, а робот. Любовь у него есть! Любовь есть только в книжках. И у роботов.
— У роботов никаких чувств нет, — не сдавался Овсянкин. — Ты на всю голову больная.
Он выудил ее из очередной расселины.
— Со мной-то как раз все в порядке, — отбивалась Эля.
— Какое в порядке, если ты ничего не помнишь.
— А что я должна помнить? И главное — зачем?
— Вот это заява! — Алька привстал и снова провалился. — На нее человек кидается с кулаками, а она не помнит, кто это и что произошло.
— Два года прошло! Чего там помнить?
— Я, например, очень хорошо помню, что было два года назад.
— Ну и что было два года назад?
— Я пришел на конюшню.
— Великое открытие!
Она снова затерялась между тюками и поняла, что дальше лезть не в силах.
— Надо было взять фонарик. Чего мы как кроты ползаем?
Все бесило. И сено, и Овсянкин со своей добротой и любовью. Зачем они ночью заявились на конюшню? Вот два идиота.
— Все, уже пришли.
Пришли — это было громко сказано. Просто в сене наметилось долгожданное завершение, тюки пошли под уклон, а значит, чердак должен был вот-вот закончиться.
— А я никогда ни с кем не целовался, — сообщил Алька из темноты.
— Иди с Потерей поцелуйся, ей понравится.
— Злая ты.
— Нормальная. Это люди вокруг злые.
Алька прошуршал сеном, но промолчал. Удивляло, что темнота не была абсолютной. Она делилась на более темные пятна и более светлые, заставляла сочинять из получившихся теней монстров, ожидать, что они шевельнутся, попробуют напасть, зарычат. Сумрак был полон шорохами, сонным движением коней, шуршанием ветра по крыше, вздохами деревьев.
— Слышишь? Лошадь?
Эля приподнялась на локте. На какую-то долю секунды ей отказал вестибулярный аппарат, и она перепутала, где верх, а где низ.
— Где? — издалека отозвался Алька.
— Копыта. Слышишь?
— Здесь? На чердаке?
Прежде чем пришло осознание бредовости предположения (ну какая лошадь, вышагивающая среди наваленных тюков с сеном?), она успела это представить. Кутузов. Высоченный, с опущенной головой, с чуть провалившейся спиной, шагает на длиннющих тонких ногах, осторожно прощупывая перед собой путь.
Она шевельнулась.
— Это внизу?
— Петрович?
Алька пополз вдаль, обвалился тюк. Шаги стихли. Все звуки перекрыло назойливое шуршание.
— Ты можешь не шевелиться? — прошипела Эля.
— Я пакет потерял.
— Кто бы сомневался!
Шуршание было в ушах, в исколотых ладонях, в зудящем теле.
— О! Нашел!
Приманка для призраков наконец была отложена в сторону. Но теперь стало слышно, как вздыхают внизу лошади, как они там переступают с ноги на ногу. Эля прямо так и увидела, как они спят, мотают головой, как ноги утопают в слое опилок.
Опилки!
По спине пробежал неприятный холодок.
— Чем они топают?
— Копытами. — Алька был недоволен.
— Какими копытами?
«Цок-цок», — донеслось снизу.
— Передними и задними, — философски изрек Овсянка.
— У них опилки в денниках. Как могут быть слышны копыта?
— Специально для тебя раскопали опилки и стучат по бетону.
Рядом вздохнули, и Эля наугад, в темноту протянула руку, чтобы отодвинуть от себя слишком близко подобравшегося Альку, но встретилась с пустотой. Кончики пальцев похолодели.
— Овсянка? — испуганно вскрикнула она.
— Чего?
С другой стороны. И совсем не так близко.
Дохнуло стылым воздухом. Скрипнули доски под осторожными шагами. Рядом. В двух шагах.
— Ал… — осторожно позвала Эля.
— Сейчас посвечу.
Алька завозился. От страха Эля как будто стала лучше видеть. Все стало четким — линия тюков, далекая крыша и темный комочек на расстоянии вытянутой руки от нее. Два внимательных глаза.
Больше ничего Эля разглядеть не успела, потому что стало светлей, контрастные тени обозначили тюки, летающую пыль. Эля чихнула, сжалась, боясь, что на нее теперь как минимум должен обвалиться потолок.
— Чего у тебя?
Рассеянный свет от мобильного придавил действительность неправильной темнотой.
— Тут кто-то еще есть, — испуганно зашептала Эля. — Я видела!
— Это была твоя тень.
— Тише!
Они давно уже не шевелились, но рядом что-то продолжало шуршать. Черт, вот наслушалась страшных историй — теперь ей все мерещится.
Но это не мерещилось. Поблизости и правда ходили, делая осторожные, еле слышные шажки. Топ… постоял… топ… вздохнул… Сначала Эля убеждала себя, что это лошади внизу вздыхают, переступают с ноги на ногу. Но не могут же они переступать с такими перерывами. Это были именно шаги. До этого за постоянным шуршанием, за этим вечным шумом, лезущим в уши, ничего другого слышно не было, а теперь — как специально. Тишина. И редкие, неправильно редкие шаги.