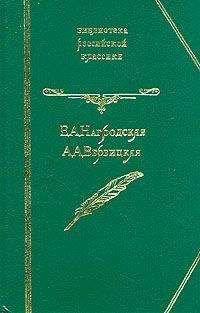— Но ты не будешь любить его.
— Таня, голубушка, ты, конечно, и не потребуешь от меня к нему отцовского чувства, ласки. Но мои заботы, мой труд к его услугам, а может быть, со временем, когда острое чувство пройдет, я и буду ему настоящим отцом. Ведь твои дети от мужа могли быть живы, разве это мне помешало бы любить тебя?
— Илья! Илья! Что мне сказать тебе? Могу ли я принять от тебя такую жертву?
— Не жертва это, Таня, не жертва, а не могу я жить без тебя; пойми, что одна мысль, что я теряю тебя, убивает. Ведь вчера поразило меня не то, что ты сказала мне, а то, что ты уходишь от меня.
— Не говоришь ли ты этого под первым впечатлением? — говорю я, чувствуя, что вся моя измученная душа оживает, что мое горе отходит куда-то, будущее светлеет.
— Нет. Таня, ты меня хорошо знаешь, я не говорю под впечатлением минуты. Ты-то не ошибаешься ли под впечатлением жалости ко мне, — говорит он с тревогой.
— Нет, Илья! Вся моя жизнь теперь в тебе и для тебя. Ты сам понимаешь, как ты бесконечно добр. Если бы я даже не любила тебя, то в эту минуту я отдала бы тебе мою любовь всю и навсегда.
Я послала письмо.
Конечно, я прекрасно сознаю, что причиняю большое горе, но ведь такое же горе я готовила любимому человеку. Старку легче будет перенести. Он так красив — неужели не найдется женщины, которая его сумеет утешить. Что же мне делать, если я не могу жертвовать Ильей и искусством.
Я написала, чтобы о судьбе ребенка он не беспокоился: мы повенчаемся с Ильей, и ребенок будет законный, Я сознавалась, что очень виновата, причиняя ему горе, но ведь такое же горе он сделал другому человеку. Я плакала над этим письмом и просила забыть меня и простить, если возможно.
Через четыре дня я получила телеграмму:
«Je vous maudis!»[19] Очень эффектно. Не знаю, но мне это кажется чем-то театральным. Эта телеграмма успокоила мою совесть: ни строчки письма, ни намека на ребенка… Может быть, это тоже красиво? Но я, верно, разучилась это понимать.
Дни бегут за днями. Вот уже месяц, как я здесь.
Сердце мое покойно. Мне грустно иногда до боли, но какой-то тихий свет кругом… это Илья, его любовь.
Он, кажется, забыл о себе и, едва увидев грусть на моем лице, сейчас же старается разогнать ее ласками или шуткой.
Моя беременность ужасно тяжелая, но, несмотря на это, я работаю много.
Задуманную картину я буду писать, когда поправлюсь, а теперь пишу портрет одного писателя, начатый еще до моей болезни.
Разговоры о моей картине сделали мне имя, у меня просят портреты, но я не могу брать заказов — вдруг умру при родах.
А что если ребенок опять родится мертвым?
Мне больно, мне будет жаль его, но для Ильи, пожалуй, будет лучше.
Сегодня Женя вернулась из больницы грустная, она провела все утро с матерью. Катю послезавтра отправляют за границу.
Мне хочется развлечь Женю, и я завожу разговор о ее женихе.
Жених Жени мне нравится, но он напускает на себя слишком много серьезности.
Вчера вечером я, извиняясь, что решаюсь давать ему советы, сказала прямо:
— Никогда не бойтесь быть откровенным с вашей женой, не сдерживайте ваших чувств, даже из страха показаться смешным, а то она может подумать, что вы ее мало любите. Если она бросится к вам в порыве горя или радости, обнимите и поцелуйте ее. Главное — не бойтесь слов. Слова — ложь, когда они не искренни, но если любишь — они музыка для того, кто хочет их слушать.
Он, кажется, понял, что я хотела сказать, поцеловал мою руку и теперь со мной и Женей сбрасывает маску молодого ученого — будущей знаменитости.
Дай Бог, чтобы девочка была счастлива, Она теперь сидит на высоком табурете и строит планы о своем будущем житье. Я слушаю ее воркованье, и работа идет легко.
Девушка подает мне карточку. Латчинов! Хотя мне тяжело встретиться со свидетелями моей римской сказки, но Латчинов так тактичен. Я так люблю с ним поболтать, что я искренне рада ему.
— Вот, Женя, я тебя сейчас познакомлю с очень интересным господином.
— Мне теперь все «господины» безразличны, — говорит Женя, делая презрительную гримаску, Латчинов, как всегда, изящен и мил и так же, как всегда, подносит мне цветы.
Мы ведем оживленный разговор, и, хотя Женя и объявила, что ей все безразличны, но уже через десять минут так увлеклась с ним разговором о музыке, что хотела тащить его в гостиную к роялю, попросить ей что-то сыграть, но раздался знакомый звонок, и она, наскоро извинившись, красная и счастливая, как ураган вылетела из мастерской.
— Татьяна Александровна, я явился к вам по делу, — говорит Латчинов, — мне поручено письмо, которое я должен просить вас прочитать немедленно и дать мне ответ, хотя бы устно.
Он подает мне письмо.
Руки мои дрожат, пока я его распечатываю.
«Я пишу вам не потому, что мне хочется напомнить вам о себе. Упрекать вас я не буду, будьте счастливы — я не желаю нарушать вашего счастья. Мне нет до вас дела, но я требую того, что принадлежит мне, от чего я никогда не откажусь, — я требую от вас моего ребенка.
Неужели вы хоть на минуту могли подумать, что я соглашусь отказаться от того, что теперь одно привязывает меня к жизни?
Вы думали, я позволю, чтобы дитя мое считалось сыном постороннего человека и называло его «отцом»!
Как вы только могли подумать, что я допущу это?
Я не хотел ни пугать вас, ни угрожать вам, потому что уверен, что вы согласитесь на мои условия.
Иначе я пойду на все! На какой угодно скандал, до убийства этого человека включительно, и не буду считать это преступлением.
Я не требую себе моей жены, я не властен в ее чувствах и не имею права вмешиваться в ее жизнь, но я требую моего ребенка, а вы не смеете его у меня отнять!
Я еще очень болен и не могу писать что-нибудь связное. О деловой стороне этого вопроса с вами переговорит Латчинов. Я еще не могу вам простить, я еще ненавижу и проклинаю вас, но отдайте мне ребенка добром, и я прощу все — прощу от души».
Я сидела опустив голову. Мысли мои спутались!
А я-то думала, что все мои несчастья кончились.
— Татьяна Александровна, — тихо позвал меня Латчинов, — могу ли я говорить?
— Говорите, — отвечаю я машинально, вкладывая письмо в конверт и вертя его в руках.
— Старк получил ваше письмо во время веселого завтрака, на котором присутствовал и я. Пока он читал письмо, я понял по его лицу, что случилось что-то ужасное.
Дочитав, он бросился к столу, чтобы написать телеграмму, — он написал одну строчку, хотел писать дальше и не мог.
«Пошлите, все равно», — сказал он мне, суя мне в руки листок.
Не успел я взять телеграмму, как он упал на пол, как подкошенный.