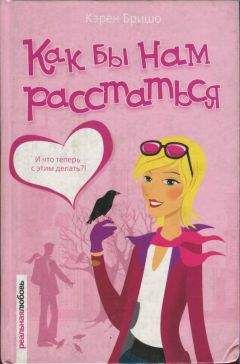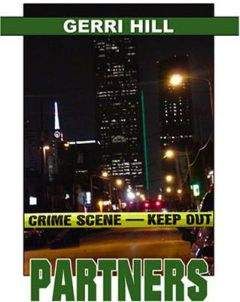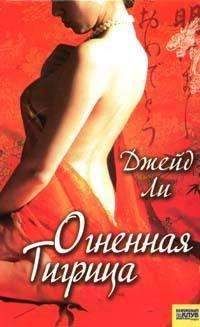Отец опять меняет положение. Скрещивает ноги. Снова вытягивает их. Я перевожу взгляд с его ботинок на лицо. Он смотрит на маму. Уголок рта у него дергается, меняя улыбку на угрюмую ухмылку, а потом на совсем уж хмурое выражение. Он ловит на себе мой взгляд и встает. Это движение такое быстрое, что я упираюсь глазами в пряжку его ремня, и я не вижу, что делается в уголке его рта, когда он говорит:
— Ну, я, наверное, пойду. Надо работать. Кто-то же должен оплачивать счета за все это.
— Сегодня суббота, Брэд, — говорит мама. Очень спокойно говорит.
Идущая на центральный пост сестра останавливается и смотрит отцу в лицо. Она стоит между мамой и отцом, а иначе, наверное, мама бросилась бы на него, как не подвластная времени кошка Люси на ничего не подозревающего кардинала…
— Работы полно, — отвечает отец. — И на субботу хватает. Позвони, когда будут новости.
И он уходит. Но я все же успеваю заметить спрятавшийся в подергивающемся уголке рта негасимый огонь раздражения и злобы. Это не из-за боязни, что на него может накинуться мама. Это из-за страха перед чем-то еще. Перед больницами, например. В больнице я видела его всего два раза: когда родилась Джина и когда умерла бабушка. Нет, правда, я не знаю, боится он больниц или нет. Может быть, он просто такой бесхребетный…
— В следующий раз, — сказала бабушка, — выбирай мужчину, у которого хребет потверже. Или сама такого воспитай.
Я потрясенно уставилась на нее.
Бабушка — мамина мама — страдала от болезни Альцгеймера. Мы не знали, что это так, до тех пор, пока мне не исполнилось десять лет. До этого мама считала, что бабушка нарочно все забывает, чтобы разрушить ее, мамину, жизнь. В то время все хотели разрушить мамину жизнь. От продовольственного магазина, где кончилось печенье, до почтового отделения, нарочно приносившего письма, адресованные папе, на Мейпл-вуд-драйв вместо Мейпл-стрит…
Всегда все сводилось к папе.
Десять лет — это в промежутке между тем возрастом, когда мама прочла мне лекцию о сексе, и временем, когда я пошла на свое первое свидание с Неряхой Джефом. В эти несколько коротких лет я была ничем, фикцией. Слишком маленькой, чтобы попасть в действительно трудное положение. И слишком большой, чтобы за мной постоянно присматривать. И каждую неделю воскресным вечером мы с мамой отправлялись к бабушке.
«Бабушкин дом» на самом деле был квартирой в корпусе для людей, нуждающихся в уходе, находившемся на южной окраине города. «Домашний уют» там мог бы составить конкуренцию разве что уюту тюремных камер. Бабушка не всегда жила там. У меня сохранились смутные воспоминания о маленьком домике, окруженном деревьями и пропахшем старыми тканями и мылом для деревянных кухонных столов. И менее смутные — о флакончиках из голубого, зеленого, желтого и красного стекла, стоявших на подоконнике. Мне нравилось, как они играли разными цветами, когда в окно заглядывало солнце. Возможно, эти воспоминания остались от бабушкиного дома, но у меня не хватало смелости спросить маму, похоже это на что-то реальное или это воспоминания о сне.
Я никогда не видела этих ярких разноцветных флакончиков в бабушкиной квартире. А пахло в ней рвотой и освежителем воздуха для туалетов с запахом убойной силы. Таким, какие стоят в сортирах придорожных забегаловок для шоферов-дальнобойщиков…
— Привет, мам, — всегда говорила мама и целовала бабушку в щеку.
А бабушка не отрывала глаз от телевизора.
Я дергала маму за руку:
— Можно мне пойти поиграть в комнату отдыха?
В комнате отдыха был бильярд. Мне нравилось катать шарики вперед-назад, закидывать их в сеточки. А однажды я попробовала даже играть кием. Но он содрал кусок дерна с зеленого поля стола. Испугавшись, что меня накажут (или еще хуже — запретят появляться в комнате отдыха), я оставила кий на столе и побежала обратно в квартирку бабушки. Но никто так и не обнаружил содранный кусочек сукна. И я больше не боялась катать шары, но кием при этом никогда не пользовалась.
— Скажи бабушке «здравствуй», — произнесла мама вместо того, чтобы ответить на мой вопрос.
— Привет, бабушка.
Бабушка посмотрела на меня и сказала:
— Мать у тебя слабая, а отец трус. Жаль мне тебя, девочка! — Потом она улыбнулась: — Как ты, малышка?
Все это напоминало разговор не с родным человеком, а скорее с медиумом на спиритическом сеансе. Правды ровно столько, чтобы было во что поверить.
— Отлично, — ответила я.
— В следующий раз, — сказала бабушка, — выбирай человека, у которого хребет потверже. Или сама воспитай.
Я удивленно уставилась на нее.
— Нет, не ты, — продолжала она, выгнув шею, чтобы посмотреть на меня. Потом она взглянула на маму: — Ты мне что-нибудь принесла?
В машине на обратном пути я спросила маму, что имела в виду бабушка, когда говорила о «хребте потверже».
Но мама мне не ответила.
Не сводя глаз со стула, опустевшего после ухода отца, я вспомнила, что сказала тогда бабушка, и подумала, об отце ли она говорила.
— Отец боится больниц? — спрашиваю я маму.
Она ведет себя так, как будто не слышит меня. Так, будто этот линолеум — самый замечательный линолеум, который она когда-либо видела. Я уже собираюсь повторить свой вопрос, но между нами садится та сестра, благодаря которой в самый напряженный момент отец остался цел и невредим.
— Мэгги, — говорит эта сестра, — я не видела тебя целую вечность. Как живешь?
«Даже не знаю, что и сказать. Вот, мы тут сидим, а врачи делают на нас ставки в тотализаторе». Я слышу, как мои зубы щелкают, когда я прикусываю себе язык, чтобы не дать этим словам выскочить изо рта, работающего в ускоренном режиме.
Но вообще-то сестра не за этим пришла.
Мама переносит свое внимание с линолеума на сестру. Она не двигается, как бы силясь узнать это нагловатое лицо под белой шапочкой.
— Прямо как в старые времена, да? — говорит сестра, похлопывая маму по колену. — С ней все будет в порядке. Все обошлось.
И, несмотря на то, что я пребываю в искривленном временном поле, я все же успеваю заметить нехороший блеск в голубых глазах этой сестры.
Прямо как в старые времена, да?
— Уичита, — говорит мне мама, все еще глядя в поблескивающие глаза медсестры. — Сходи позвони Дилену.
Дилен.
Время ускоряется, потом замедляется, оставляя у меня ощущение тошноты.
Как же я могла забыть о Дилене?
Я почти дохожу до таксофона, когда вспоминаю, что не знаю номера Дилена и даже его фамилии. Я поворачиваю назад. Сестра уже ушла, а мама плачет.