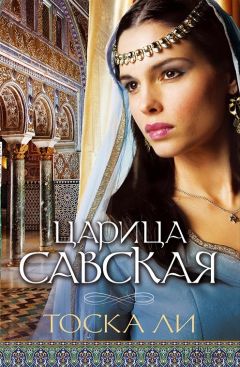Я не плачу, я радуюсь, радуюсь – наконец-то меня наказали.
Вот я, с развороченным ртом, лежать очень больно – не получается дышать, сидеть гораздо легче. Но дышать все равно получается плохо.
Я не плачу. Подвываю? Похоже, да. Звоню, вызываю такси. Еду в больницу, нет-нет, в другую.
Олаф на пороге, он принес огромную елку, скоро Новый год, какие-то продукты, из пакета вытарчивают мандарины в большом количестве, соки, рыбьи хвосты, напитки для детей типа холодного чая, они любят, бутылка коньяка, бутылка мартини бьянко, бутылка водки.
«Не готов, – сказал он предельно хмуро, – я от тебя отказаться. Переоценил свои силы. Крестовина для елки ведь есть у нас?»
«Я не учу тебя ни мести, ни прощению. Потому что только забвение – и месть, и прощение».[11] Крестовина была.
И я не плачу.
Пышный, нагловатый и разноцветный отношенческий рай с песнопениями под балконами не мой, он мне чужд и не нужен. Я против излишеств. В моем раю – черно-белые строгие деревья, некрупные яблоки висят на ветках, почти не сгибая их.
Небольшие аккуратные птицы с человеческими добрыми лицами молча смотрят на меня.
Пока у тебя что-то есть, что хочется отдать, сказать, сделать, – отдавай, говори и делай. Это ведь твое, так? Ты и распоряжаешься. Пусть водопад, камнепад, сход снега, пусть лавина, цунами, ураган – обрушивай, не бойся. Он выживет.
«Дай душу собакам, дай бисер свиньям, главное – дай».[12]
Вставай с подоконника, куда уселась рыдать о загубленной молодости, потерянных надеждах и несчастной любви.
Птицы с графичных ветвей тобой гордятся и одобрительно улыбаются – твой рай, твой сад, твоя жизнь.
22.00
Справляем Новый год мы очень своеобразно. Тридцатого декабря, не успев отметить сутки пребывания Олафа в семье, приходится неожиданно отмечать появление Колхозницы, простите, Анны.
Анна блямкает домофоном, Анна взбирается по лестнице, в одной ее руке бутылка шампанского, полусладкого, да, в другой – маленький мальчик, похожий на зайчика, беленький и хорошенький. Ее волосы явно в парикмахерской парадной укладке, посверкивает перламутровый маникюр.
– Не помешала? – с вызовом говорит Анна, упирая текущие по пухлым и ледяным щекам глаза на Олафа, Олаф пунцовеет и выталкивает ее взглядом обратно в коридор, на лестницу, к холодной металлической подъездной двери с узорной наморозью, в заснеженный и замусоренный двор подъезда, на хорошую улицу имени пролетарского писателя, и еще далее – по мертвой зимней набережной, по твердой ледяной Волге, до призрачной, воображаемой линии горизонта. Голос Анны – голос Дональда Дака, страдающего ларингитом, задор и педерастические интонации присутствуют, звонкость немного приглушена.
Мы сидим на кухне. Фееричное возникновение Анны с частями ее семьи нарушают мои большие гастрономические планы – хорошая жена обязана метать на новогодний стол яства, кушанья и прочие блюда. В текущий момент я перетирала говяжью печень с жареным луком, морковью и травами – паштет, дети любят, прослоить сливочным маслом, хорошенько охладить.
Цэ как-то был в Греции, на священной горе Афон, беседовал со старцами. Под большим впечатлением рассказывал потом, что в каждом человеке есть бесы. И что надо их изгонять.
Может быть, пока Анна ковыряла проволоку перламутровыми ногтями и откупоривала бутылку, из затопленного нечистотами подвала соседнего дома вылетел бес с труднопроизносимым и заковыристым греческим именем, проник в ее полуоткрытый рот, а она только икнула негромко – раз и другой.
– Он устал от тебя, – говорит доверительно Анна, баюкая беса, размешивая шампанское в бокале черенком чайной серебряной ложки, – ты ж сумасшедшая сука. Ты ж больная. Тебя лечить надо. Ты его вторая жена – от черта. А я буду третья – от людей. Я подожду, пока ты не натворишь еще какого-нибудь гнойного дрянца. Подожду. Я – баба терпеливая.
Олаф, красный уже даже с некоторым переходом в синий, цепляет Анну то ли за колечко блондинистых волос, то ли за рюшку нарядной блузы, то ли за длинный розовый язык, то ли за бесовы извитые рожки, то ли за гнилостный аромат липких ДональдДаковских слов.
Олаф выводит ее в прихожую, торопливо подает дубленку, со всех возможных сторон отороченную пушистым мехом, возможно, песца. Из комнат выбегает маленький мальчик, похожий на зайчика. Анна вбивает его во многие зимние одежды, выходит за дверь, уносит с собой беса, не смотрит на меня, выкрикивает визгливо (у Дональда Дака пьяная истерика):
– Запомни, у нас родится дочь, ведь у Олафа нету родной дочери, твоя не в счет! Родится дочь, он ее будет обожать, меня целовать в задницу, а к тебе иногда приезжать – навещать сына, а может быть, и не будет – если я не разрешу! Поняла?! Понял?!
Запинаясь, идет по лестнице. Маленький мальчик, беленький и хорошенький, испуганно моргает, подпрыгивая в такт материным неровным шагам.
Я возвращаюсь к размолотой говяжьей печени, живо перетираю ее с парой слез и десятком проклятий шепотом. Шампанское отпиваю из горлышка. Олаф не показывается.
Всю ночь и полдня я не отхожу от унитаза. Исторгаю из себя с блевотиной сумасшедшую суку, жену от черта, неродную дочь и невысокую плотную женщину со светлыми волосами, похожую на утку.
Между приступами рвоты я прислоняю лоб к кафелю пола. Хорошо. Холодно.
Выйти из туалета я могу только около десяти часов вечера 31 декабря. Пожалуй, я бы смогла съесть немного йогурта.
Детей увела к себе сочувствующая бабушка Лэ, встревоженный Олаф ходит строевым шагом по квартире.
Из затопленного нечистотами подвала соседнего дома вылетает очередной бес, злорадно подсмеиваясь над остающимися бесовскими неудачниками.
23.45
Олаф последние дни задерживается на работе, приезжает чуть не в одиннадцать-двенадцать, сегодня утром объявила, что вечером пригласила в гости Кису, все такое. «И Снежану Константиновну тоже пригласила, одобряешь?» Одобрил. Очень Олаф человек на гостей легкий, и вообще на всякого рода подъем, я вот так не могу, потупить бы в одиночестве.
Но вот одно плохо, и даже ужасно, – втемяшится мне в голову какая идиотская мысль (любая, любая), и буду воплощать ее до посинения, как вот с этим чертовым Кисой и дорогой подругой. Собственно, подруга заявилась уже чуть не с утра. Очень ее возбудила перспектива возобновления знакомства и дружбы с обновленным, усовершенствованным Кисой. Снежана Константиновна плотно уселась у меня на кухне, получила разрешение брать в холодильнике все, что сочтет нужным (выбрала сыр, сосиски и пористую шоколадку), а я надеялась поработать, потому что буклет Фединьки и его речь на Круглом столе дружно горели синим пламенем, да и для Клиники надо было переделать приглашения, все успеть, и не совсем понятно, как.