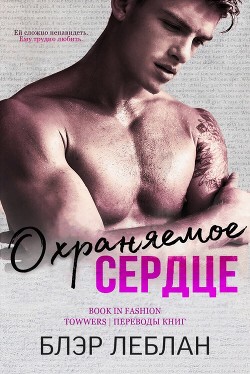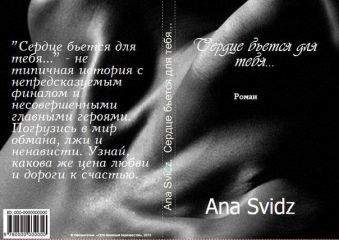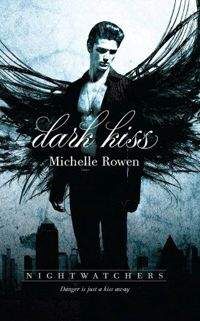— Людмила Прокофьевна, — говорю я строго, глядя на нее, прижимая Наиля к себе. — Вы за все это время даже не удосужились прийти к нам в больницу, узнать, не нужно ли нам чего. Памперсы, лекарства, одежда, деньги, конфеты для медсестричек, в конце концов!
Она открывает рот, но я останавливаю ее движением руки – выставляю ладонь вперед.
— Нет, нет, позвольте мне высказаться. — я устала, руку тянет, и все тело болит после неудобной позы в дороге, и это придает мне решимости расправиться с делами здесь и сейчас. К тому же я вдруг вспоминаю, что в комоде на первом этаже лежит спрятанный пугач – пистолет-травмат, который подарил мне когда-то Камал, чтобы я могла постоять за себя, и он придает мне уверенности в себе, снова.
— Я не желаю видеть вас в этом доме.
— Хамка! —начинает верещать она. — Я не позволю! Это дом моего сына!
Наиль начинает кричать, плакать, проснувшись от острого диалога между мной и свекровью, который проходит на повышенных тонах.
— Ты даже не работала ни секунды, чтобы так говорить! Да и в больницу к нему не ходила!
— Это не ваш дом, — тыкаю я в нее пальцем, давя на своем. — И, если вы не уйдете, вызову полицию. После аварии они очень заинтересованы во мне, и помогут во всем, понятно?!
Она морщит губы.
— Дом такой же твой, как и мой!
— Чушь, — фыркаю я и чувствуя, что она задумалась, прохожу мимо, толкнув плечом. Вхожу по-хозяйски в свой дом и качаю малыша. Однако отвлекаться на него мне пока нельзя: нужно выиграть эту битву для начала. — Дом не ваш, это точно. Но я уверена, что он будет моим на сто процентов. И знаете, почему? Потому что я развожусь с вашим сыном. С вашим ужасным, грубым, мелочным сыном!
Глава 42
Тянуть с этим нельзя. И наутро мы выезжаем из дома втроем: я, Наиль и Людмила Прокофьевна. Она, конечно же, не собирала вещи, не разговаривала со мной, но у меня не было желания с ней ругаться и выяснять отношения: было множество других дел с грудничком, которого следовало выкупать, покормить, обезопасить от микробов выстиранными и проглаженными пеленками.
В общем, весь оставшийся день был посвящен домашним хлопотам молодой мамы, и я не придумала ничего лучше, чем тоже уйти в сухую несознанку в отношении свекрови.
Вызвав такси, погружаю детскую люльку на заднее сиденье, ставлю большую сумку с запасными вещами на пол, усаживаюсь сама. Людмила Прокофьевна в своей брюзгливой манере что-то вещает с переднего кресла, и я точно знаю, что она ловит мое отражение в боковом зеркале. Поэтому я не поднимаю голову, делаю вид, что ее тут нет и не было никогда. Смотрю только вниз, на сморщенное личико моего сокровища и поправляю маленькое теплое одеялко, чтобы оно не мешало ему.
— Наконец-то очнулась, в больницу едет, — бухтит она себе под нос, но достаточно громко, чтобы я услышала. — Он –то столько для нее сделал, а она…При малейшей трудности – бежит, как крыса с тонущего корабля. Да она крыса и есть!
Свекровь кидает яростный взгляд в зеркало, которое должно отражать меня, но я не ведусь на провокации, молчу, отчаянно желая оказаться в это самое мгновение в каком-нибудь другом месте.
Мы немного подпрыгиваем на «лежачем полицейском», которыми изобилует дорога на въезде в город, и Людмила Прокофьевна отвлекается на это. Начинает выговаривать своим шелестящим от сдерживаемой злости голосом все, что думает о его манере вождения.
Я же, почувствовав наконец, что больше не являюсь предметом пристального внимания, вдруг буквально ныряю в себя и зажмуриваюсь от того, как много боли и черноты собралось в моей душе.
Знаю, что не имею права на злость по отношению к Игорю, но ничего не могу с собой поделать – вся моя история порочной связи началась благодаря ему. Только он виноват в этом, только он. Все было неправильно, с самого начала. Он выбрал меня в жены, решив, что из-за того, что я не блистаю красотой, то буду примерной женой, ширмой и поддержкой его бесценного эго, а как появилась возможность продать меня подороже, тут же воспользовался ею, чтобы потом включить заднюю и разыгрывать из себя оскорбленную невинность…
И, боже мой, как я ругаю себя, как ненавижу внутри себя за то, что наш разговор с Камалом был таким…таким…пустым, злым, громким, скандальным, и при этом…никаким. Если бы я знала, что больше никогда не увижу его, вернее, знала, что следы его ног больше никогда не окажутся на земле, он больше никогда не улыбнется, не рассмеется, не скажет ничего, то поступила, конечно же, иначе.
Я бы сказала ему…что безумно люблю…
Что бесконечно скучаю…
Невероятно сильно, на разрыв сердца, аорты, скорблю каждую минуту без него…
Сообщила бы ему новость о том, что у него есть сын, кровь от крови, плоть от плоти…Все так, как он и предсказал в нашу первую, странную, кармическую встречу…
И на самом деле я, наверное, в глубине души простила ему его детский грех – что он вместе со своими друзьями поджег мой дом. Он жил в детском доме, наверняка на этот проступок имелись причины, и в силу возраста он просто не мог осознать тот факт, что маленький огонек может разрастись до пожара огромных масштабов, который будет полыхать спустя годы на теле уже взрослой женщины, исходить дымом в ее обезображенной насмешками душе.
Отчего так больно и так невозможно и страшно любить? Отчего никто и никогда не может быть счастлив? И почему это счастье – счастье быть любимой, желанной, не доступно всем женщинам? За короткую возможность испытать это чувство я заплатила слишком высокую цену, невыносимую, непосильную…
Больничный коридор пуст и встречает нас неуместной радостной россыпью солнечных зайчиков. Мы торопливо бредем вслед за лечащим врачом, я с трудом поспеваю за ними – детская автолюлька кажется невероятно тяжелой и оттягивает руку, я беру ручку то в правую, то в левую руку, но все равно ноша кажется мне непосильной.
Наконец, мы доходим до белой двери палаты, за которой лежит все еще мой муж. Пока официально. Я короткой вздыхаю и не обращаю внимание на то, как суетливо ведет себя Людмила Прокофьевна перед тем, как мы все вместе войдем в святая святых – палату Игоря.
Прислушиваюсь к себе и понимаю, что ничего, кроме сожаления и маленькой толики жалости не испытываю к тому, кто пострадал в автокатастрофе, потому что знаю: из этой аварии никто не вышел живым. Все слова, вся правда, которая показала свой безжалостный оскал, изменила наши жизни на сто восемьдесят градусов, а то и вовсе лишила ее…
— Посещение будет коротким, — говорит сквозь маску врач и сурово смотрит на Людмилу Прокофьевну – видимо, за эти две недели она успела ему качественно выесть мозг и осточертеть. — Он согласился на эту встречу только тогда, когда узнал, что Оксана Витальевна сама высказала инициативу этого посещения.
— Пойдемте уже скорее, — Людмила Прокофьевна демонстративно встает впереди меня, заставляя лишь смотреть в ее спину негодующим взглядом. Она расстаралась: принесла с собой две сумки еды, несмотря на то, что не далее, как вчера лечащий врач Игоря предупредил (в который, видимо, раз) об особом питании, диете больного.
Ей не терпится поиграть в любящую мать, правильную до мозга костей женщину, но при этом совсем не хочется делать что-то для этого по-настоящему. Ни единой душе не известно, что Наиль – не сын Игоря. А потому особенно странным кажется, что Людмила Прокофьевна избегает малыша, и даже не выразила желания подержать на руках малютку…
Мои размышления прерывает врач – он распахивает дверь, и мы застываем при входе.
В палате Игорь лежит не один, но второго мужчину мы едва ли замечаем, не обращаем на него внимание, и старичок отворачивается к телевизору, убавляя звук.
Все наше внимание приковано к Игорю, вернее, к тому, что, наверняка, является им: на больничной койке лежит человек, почти полностью покрытый бинтами. Рука покрыта гипсом и почти стоит в воздухе на подпорке, стоящей рядом. На правой ноге – тоже гипс, но я помню, что врач говорил о том, что совсем скоро его будут снимать. Забинтована также и грудь – под тонкой черной футболкой видны белые полосы в вырезе горловины. Но больше всего пугают бинты на голове, которые полностью скрывают лоб, - только волосы на макушке торчат в разные стороны, как воронье гнездо.