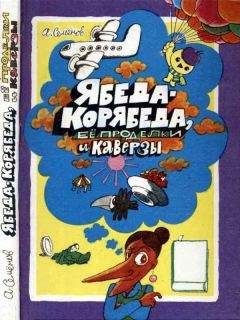— Что? — смущённо прячу за ухо русые локоны.
— Безобразие, Тася! Когда ты волосы в последний раз подстригала? А тонировала?
— Никогда…
Чувствую, как к горлу подкатывает солёный ком обиды. И почему нападки сестры кажутся мне настолько унизительными?
— Папа говорит, что у меня и свой цвет волос очень красивый, — зачем-то оправдываюсь, хоть и понимаю, что Ника права. Сто раз права! И то, что Савицкий выбрал не меня, а расфуфыренную Барби, лишь доказывает истинность суждений сестры.
— Боже, Тася! — играет бровями Ника. — Твой папа слаще морковки ничего не ел, а краше Алёны Апиной не видел!
— Он и твой папа тоже! — вступаюсь за отца. — И всё он видел, иначе бы маму не полюбил!
— И всё-таки, Тася, ты редкая дура! — наигранно вздыхает сестра и вальяжно плюхается в кресло. — Да ни один нормальный парень не посмотрит в твою сторону, пока ты не начнёшь за собой следить! Вон, даже местный псих нашёл себе девицу получше тебя!
— За собой следи, Ника! — огрызаюсь в свою защиту. — Твои дорогие шмотки и идеальный макияж — ещё не залог «долго и счастливо». И если ты думаешь, что Турчин с тобой по великой любви, то сильно ошибаешься! Он тебя использует! Ясно?
— Ещё скажи: чтобы к тебе поближе подобраться! — начинает неистово хохотать сестра. — Неотразимая ты наша царевна-лягушка! Да ты нафиг никому здесь не сдалась! Так, тусклая тень, девочка без имени и будущего. Тебя же все, кому не лень, бьют и унижают! И даже заступиться некому!
— Неправда! — Верчу головой, пока непрошеные слёзы скапливаются в уголках глаз. Меня распирает от желания бросить в лицо Нике, как Гера начистил морду Кирееву или как ночью бережно переложил меня в кровать, и тем самым раз и навсегда отучить сестру от постоянных оскорбительных высказываний в мой адрес. Но её безжалостный смех проникает под кожу, запуская по венам ядовитое сомнение: что, если я сама всё придумала?
— Ну-ну, спустись на землю, сестрёнка! — с ехидцей добивает меня Ника. — Ты никто, и звать тебя никак! Так всегда было! И не мечтай, что что-то может измениться!
— Что за шум, а драки нет? — Весёлый голос отчима доносится с лестницы, а следом слышатся тяжёлые шаги.
— Вечер добрый, девочки! Ай да аромат! Чувствуете? Сегодня на ужин у нас настоящий плов! — Пока мы с Никой, скрипя зубами, сверлим друг дружку взглядом и вынужденно молчим, Вадим неспешно спускается.
— Прости, — произношу первой. Какими бы разными ни были наши взгляды на жизнь, другой сестры у меня нет.
— Не подлизывайся! — небрежно бросает Ника и, грациозно поднявшись с кресла, походкой «от бедра» шагает прочь. — Извини, пап, аппетит пропал. Ужинайте без меня!
— А ты чего замерла, Тась? — Мещеряков потирает шею и вопросительно смотрит на меня. — Тоже хочешь сбежать? Не дури! Гера уехал, у Лизы мигрень, так хоть ты составь старику компанию.
Несмотря на то, что мой аппетит вслед за Никиным испарился, я не могу отказать Вадиму: порой легче согласиться, чем искать отговорки, да и обижать отчима не хочется. В последнее время между нами установился мир, и рушить его из-за ерунды глупо.
Впрочем, плов, и правда, удался на славу: в меру острый и рассыпчатый, совсем не жирный и до безумия ароматный, своим вкусом он отвлекает меня от грустных мыслей. И вот мы с Вадимом уже говорим на отвлечённые темы, как давние друзья: обсуждаем последние события в мире, погоду, планы на лето… В какой-то момент я даже ловлю себя на мысли, что Мещеряков — единственный в этом доме, с кем уютно сидеть рядом. Он не притворяется, не пытается, как все остальные, плюнуть мне в душу. У него есть причины меня не любить, но он старается рассмотреть во мне свет. Наверно, поэтому, когда дело доходит до десерта, а подходящие для обсуждений темы иссякают, меня не напрягает молчание, повисшее за столом, да и задумчивый взгляд отчима больше не кажется холодным и отстранённым.
— Я сегодня видела Геру с девушкой, — произношу несмело, ковыряя десертной ложкой тирамису. — Похоже, ему впрямь стало лучше.
— Я, что, один не успел ещё лицезреть эту таинственную незнакомку? — смеётся Мещеряков.
— Она очень красивая, — бормочу с улыбкой на губах, пока ревность терзает душу.
— Ты тоже, Тася, — по-отечески мягко отвечает Вадим, отчего мои щёки мгновенно заливаются румянцем.
— Как вы думаете, у Геры это серьёзно? — Мне не хватает смелости взглянуть на отчима, почему-то кажется, что он читает меня, как открытую книгу.
— Таким окрылённым я, пожалуй, Георгия ещё никогда не видел, — соглашается Вадим, втаптывая мою робкую надежду в грязь. — Насколько мне известно, Гера даже возобновил занятия с психотерапевтом. Поверь, Тася, раньше мне приходилось месяцами упрашивать его пройти обследование, а сейчас…
— Любовь творит чудеса. — Пытаюсь улыбнуться, но выходит с трудом. Я успела познать и оборотную сторону этого коварного чувства: пока у одних за спиной вырастают крылья, другим не помогает самое мощное обезболивающее, чтобы унять боль.
— Не соглашусь, Тася! — Вадим делает глоток крепкого чая. — Сама по себе любовь мало на что способна. Чудеса, как правило, творят люди, впустившие её в своё сердце.
— Получается, Гера впустил? — Из-за гула в ушах с трудом слышу собственный голос.
— Получается, так, — соглашается отчим.
— Я рада за него. — Отодвигаю от себя тарелку с размазанным по ней десертом, который я так и не попробовала на вкус, и, поблагодарив Вадима за ужин, плетусь к себе.
Моя глухая боль находит выход в тихих слезах. Я не соврала: мне, правда, радостно за Савицкого, просто немного грустно за себя. Глупые надежды одна за другой рушатся, как карточный домик. Ощущаю себя наивной дурой, на пустом месте придумавшей любовь, и впервые за долгое время засыпаю не на полу, а в кровати, оставив окно наглухо закрытым.
Меня будит дождь. Крупные капли стучатся в стёкла и со всей дури тарабанят по крыше. В унисон дождю грохочет гром. Тяжёлыми раскатами он прогоняет остатки сна, возвращая на место привычную боль. Я бы и рада забыться, но небо решает за меня. Мы плачем вместе, снова. Я задыхаюсь от одиночества, схожу с ума от дикой пустоты на сердце! Мне не хватает моих иллюзий, слепой надежды, веры в любовь… Пытаюсь трезво смотреть на вещи: мы с Герой не созданы друг для друга, это очевидно! Вслух перечисляю все его недостатки, вспоминаю грубые слова, сказанные в мой адрес. Савицкий никогда не питал ко мне тёплых чувств! Но всё разумное меркнет, стоит мне только представить свою жизнь без НЕГО. Мы не выбираем, кого любить. Сердцу плевать на запреты, ему чужды условности. Оно согласно биться только рядом с НИМ, и спорить тут бесполезно, равно как и пытаться сбежать. Вспышка молнии — как озарение: я проиграла эту битву в самом начале, когда по глупости впустила в своё сердце любовь.
Бессмысленно ворочаюсь в кровати. Зову сон. Бессвязными стонами пытаюсь заглушить боль, которая, как снежный ком, с каждой минутой множится в объёмах: сдавливает грудь, сковывает дыхание, лишает рассудка. Вот она, моя глубина! Чёртова бездна! Проклятая любовь!
Не включаю свет. Босиком встаю на прохладный пол. Шмыгая носом, иду на шум дождя. Рывком раздвигаю шторы и, жадно касаясь разгорячённым лбом мутного от капель стекла, безнадёжно вглядываюсь в темноту. Внезапный разряд молнии ярким сиянием освещает всё вокруг и тотчас парализует сознание: там, под проливным дождём, в паре метров от моего окна стоит Савицкий, насквозь промокший, и, как и я, обезумевший от тоски и боли. Что это — галлюцинация, фантом, отчаяние?
Мне сносит крышу! Секундный ступор сменяется судорожными попытками открыть окно, но я так взволнована, что всё делаю не так: с трудом нащупываю засов, дёргаю его не в ту сторону и слишком резко. Когда, наконец, справляюсь с задачей и под завывание ветра впускаю в комнату потоки небесных слёз, образ Савицкого бесследно исчезает.
— Гера! — в агонии кручу головой.
— Савицкий! — пытаюсь перекричать дождь.
— Не надо так со мной, — тихо вою, когда очередная вспышка молнии являет моему жадному взору пустоту.