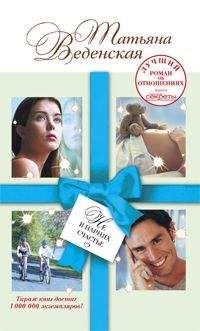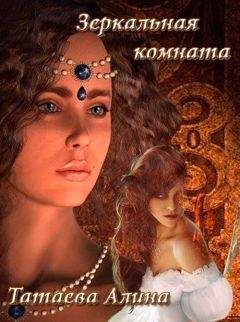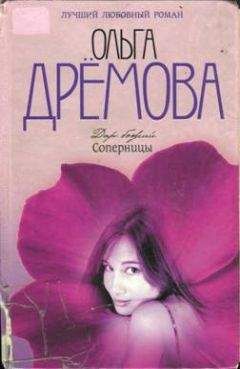– Совсем с ума посходила, – ворчала мать. – И чего тебе у этих Хватовых, медом намазано? Хоть бы дома посидела пять минут. А вдруг мне помощь какая требуется.
– Мам, ну чего? – нетерпеливо отвечала я, переступая с ноги на ногу. Под словом «помощь» подразумевалось, что я должна сидеть и выслушивать бесконечные материны потоки жалоб на то, как папашка ей всю жизнь сломал, как была она хороша и юна, когда сгубил он ее ни за что ни про что.
– Хоть и были у меня такие перспективы! Могла бы и карьеру сделать, – любила добавлять она.
– Мам, ну какая карьера. У тебя только ПТУ и все. А сейчас столько всего надо знать для карьеры, – умничала я. – Компьютер, языки там, всякое.
– Повыросли тут! – заводилась она. – Откуда что берется. Погоди, еще сама наплачешься. Катерина-то небось всю жизнь тебя тянуть не станет.
– Она меня и не тянет, – обижалась я. Хотя доля истины в материных словах была. Учеба давалась мне тяжело, хоть я и продиралась старательно через все эти интегралы и обществознания. Кстати, даже получала неплохие оценки, хотя это все время было похоже на какой-то утешительный приз. Помню, как-то у доски, стоя перед зубодробительной задачкой по геометрии, я окончательно утопла в тангенсах и к ответу на задачу так и не пришла. Бобик сдулся, я раскраснелась, предчувствуя конфуз, но учительница, сильно удивленная тем, что Сундукова вообще знает, что такое тангенс, сказала вдруг:
– Ставлю тебе, Диана, четыре. Потому что ты – молодец. Стараешься.
– Спасибо, Лариса Васильевна, – радостно кивнула я, хотя и знала, что при подобном же раскладе той же Катерине влепили бы трояк в лучшем случае. Потому что она «сильная», а я «стараюсь». Что ж, они были не так уж и не правы. Да, я старалась. Не для того, чтобы чему-то там научиться. Плевать на тангенсы и вообще на школу. Но не хотелось расстраивать Катерину – она считала меня чуть ли не своим индивидуальным достижением, ей нравилось меня учить, в ней в самом деле, наверное, погиб очередной Макаренко. Я на ее воспитательные моменты внимания не обращала. Мне нравилось просто ее слушать, нравился тембр ее голоса и то, как она, когда нервничает или торопится, постоянно прикусывает верхнюю губу. Мне безумно нравилось быть ее подопечной, до такой степени, что я практически все решения в своей жизни предоставила ей. И я ревновала ее даже к учителям, которые крали ее внимание у меня. Ревновала даже к ее семье, впрочем, безосновательно и глупо – по-детски. Я хотела, чтобы мы были вместе каждую минуту. И что, вы скажете, – это ли не любовь? Нет, конечно. Любовь – это другое, но то, что было между нами с Катериной, было очень серьезно. Ее мать, Юлия Андреевна Хватова, даже какое-то время пыталась нас с Катериной разлучать, воздействовала на нее, но их отношения были настолько легки, настолько воздушны, что ничего Юлия Андреевна с Катериной поделать не могла. Катерина и из нее вила веревки. Катерина всегда была по натуре победительницей.
– Ма-ать, ты туфли будешь надевать или как? – запанибрата кричала она, стоя в прихожей с красными туфлями матери, на шпильке – сантиметров десять.
– А тебе на кой? – смеясь, высовывалась Катеринина мама, Юлия Андреевна Хватова – маленькая, худенькая, очень улыбчивая женщина. – На Динку ты их не натянешь, а тебе самой ни к чему. Чего у тебя красного есть?
– Да просто примерить. С твоим жакетом, – хитро улыбалась Катерина.
– Бери – не жалко, – пожимала плечами Юлия Андреевна. С таким же пофигизмом она давала Катерине косметику, украшения, сумки и платья, которые оказывались Катерине как раз впору – в маму пошла фигурой. Катерина была хороша – хоть и не вышла ростом и доставала мне только до плеча, зато худа, изящна и подвижна, а также, что немаловажно, умела себя подать. Набралась от мамы, от Юлии Андреевны, того, что с чем носить и в какое время дня что надевать. Умела сочетать вещи, с большим, надо сказать, вкусом. Я иногда просто поражалась, как ей в голову пришло надеть, к примеру, синее платье и белоснежный шарф – но смотрелось это вместе просто сногсшибательно. В то время как раз появилась возможность выбирать – перестройка и всякая прочая гласность сопровождались рефлекторным выбросом на рынки страны низкопробного синтетического барахла. В ассортименте. Но Катерина умела из любого говна, как говорится у нас в народе, сделать конфетку.
В Катеринином доме ко мне быстро привыкли. Через какое-то время все уже относились ко мне как к привычному предмету интерьера. Славянский шкаф, что-то вроде того. Юлия Андреевна меня подкармливала, отец их, Дмитрий Анатольевич, хоть и смотрел на нашу дружбу с некоторым осуждением, главным образом из-за страха плохого моего на Катерину влияния, но молчал. Они оба, мать и отец Хватовы, были сторонниками воспитания демократического, с доверием, уважением, вниманием и прочими новомодными глупостями, суть которых сводилась к одному: Катерина могла делать и творить все, что ей только вздумается. Как и я. Только я обладала такой свободой по другой причине – на меня было начхать.
По вечерам, когда в силу естественных причин я все-таки была вынуждена с Катериной расставаться, я сидела в своей комнатке с окошком на «стекляшку», тихо курила свистнутые у матери сигареты и думала о чем-то неуловимом, но главным образом о том, как же нам повезло. Мы встретили друг друга. Мы понимаем друг друга. И нам уже не так одиноко в этом большом мире, полном разбитых сердец и сданной на переработку стеклянной посуды. Да, Катерина стала для меня всем. И тем хуже, что она совсем не одобрила мужчины, которого я полюбила.
Случилось это на первом курсе института. Да-да, вы не ослышались, это действительно произошло, хоть и не должно было произойти. Земля перевернулась, моря обратились вспять, и я, Динка Сундукова, оторва, которую столько раз ловили у школы с сигаретой в зубах, с которой детям запрещали дружить, – я поступила в институт. Известие это потрясло всю местную общественность. Да что там, это потрясло даже саму меня. Мой папашка был ошарашен самим фактом, что у его дочери, которую все привыкли считать потерянной для общества и прочей социально активной жизни и уже готовы были принять в свои плотные ряды сдающих поутру стеклотару около «стекляшки», оказались какие-никакие мозги.
– И кто же ты теперь будешь? – поинтересовалась мать, все еще с недоверием пробующая эту новость на вкус. Мы сидели на нашей микроскопической кухне, распивая кто чай, а кто и не чай в честь моего фантастического прорыва в будущее.
– Буду маркетологом, – гордо ответила я.
– А это кто? – несколько опешила мама. Для нее профессией являлось то, что входило в перечень профессий советского отдела кадров. Повар, доктор, космонавт. Что-то из этой категории. А маркетолог – это… атрибут нового поганого времени и этой новой власти, вечно задерживающей по полгода зарплату, и вообще. Зачем нужны эти маркетологи?