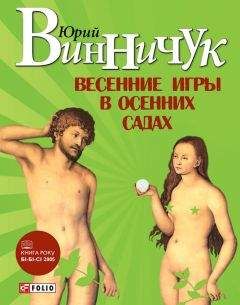– Все, друг, прости! Красивую женщину нельзя заставлять долго ждать! – сказал Ашот Аркадию и хотел подняться.
– Нет, постой минутку! – Барашков схватил его за рукав. – Ты не понял, какое это выгодное предложение! Двадцать долларов в час! До полночи – сотня баксов! На дороге же не валяются!
– Ну не могу я сегодня, прости! Поезжай один. А в следующий раз я к тебе присоединюсь.
– А когда он будет, этот следующий раз? Я уже договорился с хозяевами, нас ждут. Что ты думаешь, у таких хозяев собаки каждый день помирают?
– Ну почему ты не хочешь ехать один?
– Скажу тебе честно, – Аркадий сидел расстроенный, красный. – Я боюсь собак. С детства. Ладно бы спаниель, а тут сенбернар! Да еще больной. Ты бы его подержал, а я бы сделал укол. Так и продежурили бы до ночи. А уж ночью хозяева бы вернулись, пусть бы делали, что хотят. Мы после двенадцати за собаку не отвечаем. А до двенадцати с песиком бы посидели, вынесли бы на одеяле во двор для отправления естественных нужд. Все дела! А ты не хочешь меня поддержать!
– Но я не ветеринар!
– А нас вызывают не как докторов, а как сиделок!
– Все равно я не могу!
– Ну и зря! А мне придется ехать.
– Ты на машине?
– Ну да.
– Давай осторожно, а то гаишники остановят. После дежурства может быть круто.
В ординаторскую вошел Чистяков. Такой же, как всегда. В высоком белом накрахмаленном колпаке, в квадратных очках в пластмассовой оправе, с недовольной миной, в халате, оттопыренном на круглом мягком животе.
– Вы еще здесь? Ну и накурили! Открывайте окно и линяйте отсюда, не мешайте дежурить! Чего сидеть зря?
Чистяков был расстроен, сердит. Девочка погибала. Ему было ее жаль. Он терпеть не мог таких сборищ в рабочее время. Хотя рабочее время теперь было уже только у него – для остальных рабочий день давно закончился.
– Уж больно вы строги, как я погляжу! – басом, дурачась ответил Барашков.
– Валите, валите! Мне не до вас. Девочка ночь, наверное, не продержится. У кавказца температура поднялась. Как раз скоро будут сутки после операции. Алкаш после кровотечения пока тоже нестабилен, и нельзя сказать, что в сознании. Один "повешенный" молчит, спит. Идите и вы по домам, спите. Да завтра чтоб не опаздывали на работу! А то я тут загнусь.
– Все, все! Уходим! – заверил Ашот.
– Вот только споем на прощание! Хором! За дружбу между народами! – предложил Барашков. – Без этого не уйду!
– Так, тебя уже повело, – пробурчал Чистяков.
– Ну что, вам жалко, что ли? – Барашков встал и поймал в свои широкие руки Марину, Ашота и Чистякова. – Запеваем все вместе!
"Дети разных наро-о-дов…"
Совершенно неожиданно для себя и Ашот, и Марина, и Чистяков, и даже Мышка с Татьяной – все дружно подхватили вторую строчку, таким энергичным и компанейским оказался запев:
– Мы мечтою о мире живем!
Барашков задорно продолжал:
– В эти трудные го-о-ды…
Их голоса крепли. И как раз когда они вдохновенно хотели перейти к четвертой строке, дверь в ординаторскую открылась. На пороге показался всем знакомый следователь из милиции, а за ним – черноволосая красивая женщина в жакете из чернобурой лисы, которая днем приходила к Валентине Николаевне. Теперь явилась в компании с каким-то здоровенным мужчиной, которого называла Николаем, и с главным врачом больницы.
– Ну, что я вам говорила! – торжествующе повернулась она к мужчине и главному врачу. – Здесь просто какой-то вертеп!
– Н-да! – произнес главный врач, выразительно обвел взглядом присутствующих и вышел из комнаты. Женщина и мужчина ушли вслед за ним.
Следователь остался.
– Что тут у вас? – спросил он. – В вашей больнице вообще не соскучишься! Я тут уже два часа. В глазном отделении женщина из окна выбросилась. Ей один глаз удалили, а муж почему-то три дня к ней не приходил. Как выяснилось, в командировке был. Сегодня пришел, а она окно настежь и вниз с восьмого этажа. Бабах! А теперь тут еще у вас какого-то кавказца постреляли…
– И не только, – сказал Чистяков.
– У нас еще и девочку уксусной кислотой напоили! – добавил Барашков.
– Ну дела, – покачал головой следователь. – Дайте пожрать чего-нибудь, а то я с утра ничего не ел.
– Колбаса осталась и торт, – сказала Татьяна.
– Вот отлично! – Следователь взял большой кусок колбасы, положил его боком на кусок торта, сверху прижал куском маринованного огурчика и отправил в рот. – Класс! Чаем дайте запить!
– Спирта хочешь? – предложил Барашков.
– Нет, а то развезет. Лучше чаю.
– Вот вам, пожалуйста, – Мышка подала ему чай, который налила в свой, чистый уже стакан, и взяла в руки сумку. – Ну, до свидания. Мы пошли!
Следователь с набитым ртом промычал что-то благодарственно-прощальное, Ашот подхватил Татьяну в ее блестящей чешуе, Барашков сказал задумчиво:
– Кажется, мы все все-таки здорово влипли!
Чистяков выразительно покрутил пальцем около виска:
– А я всегда говорил тебе, что надо знать меру!
И вся компания выкатилась из ординаторской к лифту. В опустевшей комнате остались лишь следователь и Чистяков.
Валентина Николаевна расслабленно лежала в постели. Полчаса назад она выпила четверть стакана водки и съела пополам с Чарли котлету без хлеба. Теперь в животе у нее было тепло, в голове сонно, а по ногам разлилась приятная тяжесть. Она лежала на широкой кровати поверх одеяла, в черной комбинации, держала в руках какой-то иллюстрированный журнал, кажется, «Лизу» за прошлый год, но не читала. Тина рассеянно смотрела на стрелки настенных часов, висевших напротив, и думала, как было бы хорошо, если бы они не двигались хотя бы еще полчаса. Она уже наметила, что через пятнадцать минут должна обязательно встать, но пока наслаждалась покоем и теплом. На тумбочке перед зеркалом стояла узкая хрустальная ваза. Тина перевела на нее взгляд и задумалась. Когда же она ее купила? Боже, семнадцать лет назад, когда получила первую врачебную зарплату. Ваза стоила пятьдесят рублей, а вся зарплата тогда была сто пятнадцать. И все-таки она эту вазу купила, несмотря на тогдашнюю ужасную бедность. Купила на память. Можно, конечно, было выбрать и подешевле, но ей понравилась именно эта, тяжелая, но узкая ваза из толстого куска хрусталя, сделанная в форме восточного кувшина. С очень тонким горлышком, куда можно поставить только один цветок. Желтую розу, например, или хризантему с нежными кудрявыми лепестками. Но поскольку Валентине Николаевне цветы дарили редко, в вазу она воткнула несколько сухих травинок с метелками, которые специально насобирала на дачном участке еще в прошлом году, когда муж только начинал там строительство.
Теперь дом был практически построен. Тина его не любила. Она и раньше бывала на участке ужасно редко, но считала, что прежняя избушка на курьих ножках, которую они купили вместе с участком, милее, чем этот только что построенный огромный дом. Ей казалось (возможно, она была права), что дом и весь участок приобрели неуловимые черты краснодарской станичной усадьбы, где жили родители мужа и где прошло его детство. Она же тот дом терпеть не могла, как не любила свекровь, которую представляла себе как женщину, постоянно варившую борщи и жарившую свинину, как не любила свекра, с утра до вечера занятого работой во дворе и по дому и за семнадцать лет ее брака едва сказавшего невестке десяток слов.