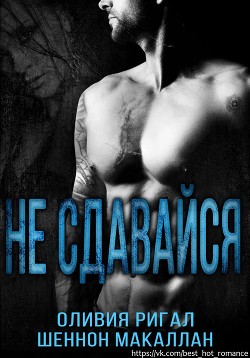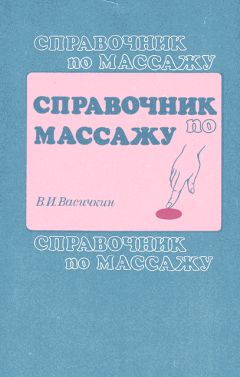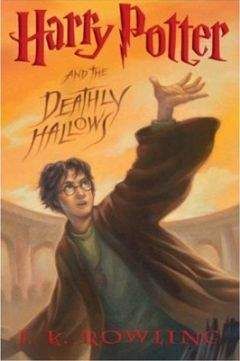Глава 17
Кортни
Вторник, 16 августа 2016 года.
Сон — мое утешение, но в ящике для покаяния его мало.
Когда засыпаю, я вижу сны, и мои сны — это убежище от этого кошмара наяву, но не думаю, что мне удалось хорошо поспать, самое больше часок-другой прошлой ночью. Мое горе все еще слишком свежо, моя боль слишком сильна.
Я ничего не ела и не пила со вчерашнего утра, кроме бутылки воды и энергетического батончика, пока смотрела, как спит Шон, но почему-то мне все еще нужно пописать. Так любезно с их стороны оставить мне хотя бы ведро в углу. Как только я облегчаюсь, сажусь в противоположном углу, крепко прижимая колени к груди, и закрываю глаза.
Но даже если я не могу заснуть, есть и другие виды снов, которые могут увести меня от этого кошмара наяву. Я совершенная мечтательница с детства, но за годы, прошедшие с тех пор, как моя мать привела нас в этот маленький уголок Ада на Земле, я достигла абсолютного мастерства. Забившись в угол ящика для покаяния размером с туалет во дворе, мой запас слез на данный момент иссяк.
Я сбегаю в свои собственные счастливые миры, в чудесные миры, где мы с Шоном сбегаем, женимся и живем долго и счастливо. Миры, где он никогда не оставляет. Даже те миры, где он покидает, но так и не находит меня, были бы счастливее, потому что он был бы жив. Это способ провести время, пока я не накоплю еще больше слез.
Восемь лет назад,когда Шон ушел, я чувствовала себя разбитой и уничтоженой. Это разбило мне сердце. В тот день, когда он уехал в учебный лагерь, я сказала ему, что люблю его.
Я думала, он знает. Как он мог это проглядеть?
Этого было недостаточно, чтобы заставить его остаться. Я схватила его за рубашку и яростно поцеловала под выцветшей вывеской станции «Борзая». Настоящий поцелуй, тот, который обжег мои губы, подпитываемый всеми годами невысказанных чувств и желаний к нему. Всю любовь, которую чувствовала, но о которой никогда не осмеливалась сказать первой.
— Я люблю тебя, Шон, — сказала я ему, когда отпустила его. — Не уходи.
Шон посмотрел на меня так, будто видел меня впервые. Наконец его глаза открылись, и я увидела, как на его лице отразились чувства, которых хватило бы на всю жизнь: замешательство, радость, горе, похоть, и каждая перемена словно горячая игла, выжигающая память об этом моменте в моей душе.
Он оглянулся через плечо на автобус, готовый ехать, и когда повернулся ко мне, в его глазах отражалась печаль, и я поняла, что слишком долго ждала, чтобы сказать ему об этом. Я потеряла его.
Мне было невыносимо слышать, как он извиняется. Я разрыдалась, а потом побежала, вверх по длинному пологому склону Конгресс-стрит, остановившись перед больницей, где работала мать Шона. Я не могла разглядеть их фигуры, стоявшие там, но представила, как он в последний раз обнимает свою мать, прежде чем сесть в автобус и уехать. Даже сам автобус был расплывчатым пятном красного, синего и серебристого цвета, отъезжая от станции, унося от меня мальчика, которого я любила.
Мелисса Пирс пришла за мной. Она оставила машину на стоянке у автобусной станции и пошла пешком, давая мне время, чтобы самые сильные слезы пролились и высохли, обнаружив, что я сижу на тротуаре, уткнувшись лицом в колени, крепко прижатые к груди.
— Так вот какие это ощущения для моей матери? — спросила я ее. — Для тебя? С отцом Шона?
— Да, — ответила она, ее глаза блестели от слез.
— Всегда. Но ты не можешь их остановить. Ты просто... все, что ты можешь сделать, — это ждать, дорогая. И ты молишься, чтобы они вернулись.
Никакие молитвы не могут вернуть его ко мне. Не в этот раз.
Кончается день, а никто не приходит проведать меня.
Здесь нет часов, но есть трещины в высокой, наклонной крыше маленького сарая, куда грешники отправляются размышлять и каяться. Бледный, туманный свет пробирается сквозь трещины по утрам, ослепляющими поражающими копьями, которые высвечивают каждую летающую пылинку в полдень. Свет медленно тускнеет к вечеру, пока не загорается прожектор, распределяя на стенах желтоватый огонь галогенных ламп.
В животе урчит, но я слишком онемела, чтобы чувствовать голод или боль в теле. Единственная боль, которая имеет значение, — это зияющие, зазубренные дыры в моем сердце, где Шона и Дэниела отняли у меня в один кровавый день. Я поворачиваюсь спиной к свету и заставляю себя заснуть на грязном полу, несмотря на грязь и кровь. Мою кровь. Это не спасло меня от Иеремии, но лишь на несколько дней отсрочило мою судьбу.
Я почти отключилась, когда шум гальки, отскакивающей от стены, возвращает меня к реальности, лишая меня утешения во сне и погружение в свои мечты, которые безуспешно искала… тридцать часов? Тридцать шесть? Я даже не знаю. Мне все равно. В чем толк?
— Кортни? — Тихий голос мягко вторгается в мои страдания.
— Кортни? Ты в порядке?Это Дженни.
Поднявшись на четвереньки, я ползу в сторону, где раздается ее голос, и сажусь, привалившись к стене. Сквозь щели я едва различаю ее силуэт в полутьме.
— Да, милая, — шепчу я ей в ответ. — Я в порядке, не беспокойся обо мне.
— Ты уверена? Потому что Мэтью, он сказал мне, что твоя мама заперла тебя. И он сказал, что никто не приходил к тебе со вчерашнего вечера. О, милая малышка. Ты могла бы стать шпионом или детективом. Ты можешь быть кем угодно, черт возьми, кем захочешь. Но вместо этого ты здесь.
— Я в порядке, Дженни. Обещаю, — говорю я ей. Ей больно лгать, но едва ли это лишнее бремя в добавок ко всему.
— Ты плохо себя вела? — Голос Дженни жалобен, в нем смешиваются в равной степени подозрение и недоверие. Я не могу удержаться от смеха в ответ на ее вопрос — это логика маленькой девочки. Если моя мать наказывает меня, это значит, что я плохо себя вела. Не имеет значения, что я взрослая.
— Я даже не знаю, Дженни, — отвечаю я. Взрослая? Возможно, физически и юридически, но я вела себя как прилипчивый ребенок, надеясь, что когда-нибудь моя мать все поймет. Хотя теперь, когда думаю об этом, я вела себя не так. Я была навязчивым ребенком, который не хотел отпускать свою мать.
— Ну, я не знаю, что ты сделала, но не думаю, что ты настолько плохая, чтобы не пить воду, — добавляет она. Ее тон предельно серьезен. — Давай, возьми это.
Под стеной есть маленькая щель, которую только можно вообразить, и с мгновенным усилием я увеличила ее, и мой крошечный ангел просунул пластиковую бутылку в отверстие. Мое сердце наполняется благодарностью, когда я откручиваю крышку. Все содержимое бутылки исчезает за три длинных глотка. Я не подозревала, насколько сильная жажда меня мучила.
— Спасибо, милая, — благодарю я, возвращая бутылку ей.
— Мне действительно это было нужно. — Я хотела бы обнять тебя, Дженни. — Тебе нужно идти, Дженни. Возвращайся в общежитие, в свою кровать, пока у тебя не начались неприятности.
— Спокойной ночи, Кортни, — прощается она.
— Спокойной ночи, моя милая, теперь будь осторожна!
Дженни убегает, и мягкий хруст от ее босых ног по гравию затихает, и у меня внезапно появляется новая причина плакать. Может быть, я и не вынашивала ее, не рожала, но не смогла бы любить Дженни больше, чем сейчас. Моя малышка, мой маленький ангел милосердия, возвращает мне часть моей веры в человечество. Но что, если бы она была моей? Но что, если бы она была моей? Что, если бы Шон был твоим отцом, Дженни?
В моем сознании строится новый маленький мир, полный ярких огней и боли, и я кричу, потому что это больно, но я тоже так счастлива, и голос Шона говорит мне надавить, но он такой спокойный и тихий, даже когда я кричу, ЧТО ЭТО ТВОЯ ВИНА! ТЫ СДЕЛАЛ ЭТО СО МНОЙ! и моя мама держит меня за руку, и я так сильно люблю ее, мы так близки, и я так рада, что она сегодня здесь со мной, это так много значит, но она смеется надо мной, потому что она сделала то же самое, крича на моего отца, когда я родилась, а потом мой папа и отец Шона тоже, они у двери, и медсестры кричат на них, чтобы они убрали эти грязные сигары из здания, но они все равно улыбаются, а потом все кончено, и одна из медсестер — моя свекровь, и она дает мне моего ребенка, и это девочка, и ее зовут Дженни, и мы с Шоном водим ее в первый день в школу, и там вечеринки по случаю дня рождения, и... Боже мой, как нашей дочери уже исполнилось шестнадцать? Ты так быстро взрослеешь, и мы с твоим отцом так сильно тебя любим, и...