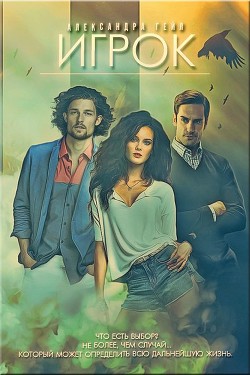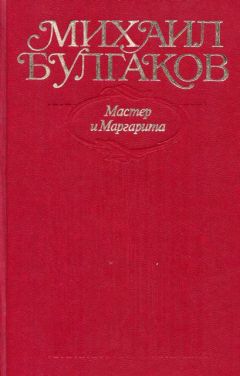— Нет, ничего, — говорю. — Это морфий разговаривает.
— Поняла, — кивает она, заставляя волосы на моей шее шевелиться.
— Повыше можешь? — резко и недовольно спрашивает безымянная.
— Конечно.
Но на самом деле не может: тянет меня ближе к себе, а не вверх, и наконец прижимает к груди. Ощущений становится слишком много, и что-то сладкое и дикое стягивает внутренности. Свободная от гипса рука прижата к ее бедру. Поворачиваю так, чтобы коснуться пальцами ноги сквозь халат и… брюки. На ней точно брюки.
— Еще повыше, — опять говорит безымянная.
— Я помогу, — говорю, обхватывая свободной рукой Жен за талию. Чувствую ладонью, как гнется ее узкая спина в попытке приспособиться.
— После операции нельзя напрягаться, Кирилл, — говорит мой доктор.
Мой доктор.
Когда безымянная заканчивает, меня укладывают обратно и начинают менять намокшие бинты на гипсе на ноге, но наркотический дурман превращает прикосновения в самую интимную из ласк. Каждое нервное окончание отзывается стократ острее, чем в обычной жизни. Волны полубреда раскачивают в разные стороны, и я уже не знаю, где реальность, а где ее нет.
Вспоминается газетный снимок весьма плохого качества. Родители однажды сказали, что Елисеевым стоило бы решиться на аборт, чем растить настолько больную дочь, и я обратил внимание. На фото она улыбалась и больной не выглядела вовсе. Сейчас, интересно, так же?
— У вас почти сошли синяки, — говорит мой доктор, касаясь пальцами живота, а мне мерещится, что это ее дыхание такое невесомое.
Точно в полубреду представляю, как она склоняется к моим губам и касается их, но знаю, что все лицо замотано и пытает меня не более чем воображение. Оно выдает желаемое за действительное, но на всех уровнях, и это сбивает с толку. В попытке проверить, мерещится или нет, хватаю ее за руку, веду по ней вверх, а затем со всей силой цепляюсь за рубашку. От неожиданности доктор делает пару шагов ко мне, но молчит, а мои пальцы уже гладят кожу над поясом брюк. Гладкую, бархатную. Если бы мог, я бы уткнулся в нее лицом, но вместо этого как завороженный вожу ладонью по ее телу. Рука устает, едва удается держать ее на весу, но я ни за что не отпущу. Ни за что! Я будто вижу, наконец. У меня здесь телевизор иллюзий.
— Перестань, — тихо говорит, впервые обращаясь на ты, но не стряхивая мою руку как что-то отвратительное. — Это наркоз так действует. Поспи.
Черта с два наркоз. Может быть, он раздвинул границы, избавив от шелухи условностей, но не более того. Ничего незнакомого я не испытал. Все уже было. Я с ней проделывал уже все. Просто не решался признаться.
И будто по заказу из коридора вдруг доносится:
— Пропустите! Я хочу, наконец, увидеть сына!
Вот теперь она резко отскакивает в сторону и накидывает на мои ноги одеяло. А я пытаюсь понять, что реально, а что — придумал. И правда ли явилась моя мать.
Жен
Мать Кирилла — Галина, кажется, — решительно залетает в палату и удивленно замирает на месте. Еще бы. На полу лужа воды, ваза, розы разбросаны, посреди этого бедлама стоит бестолковый врач, а ее сын, которого она — готова спорить — ожидала увидеть в куда лучшем виде, опутан бинтами и гипсами, как египетская мумия. Благо она хотя бы не знает, что случилось минуту назад. Кстати, и я тоже не знаю. В чем дело? Это был совершенно непозволительный уровень интима с пациентом, и он может лишить меня работы. Но что я делаю? Я просто стою как вкопанная и позволяю себя касаться. И если Кирилла оправдывает морфий, то я без оглядки бодро топаю по пути саморазрушения. Ох, Женька, ты уже столько всего испортила, хоть в порядке разнообразия соберись!
— Кира… — восклицает мать Харитонова, прижимая руки к губам и обналичивая домашнее прозвище взрослого и серьезного мужчины. — Боже мой, сынок…
— Мам, я в сознании и прекрасно тебя слышу, — бурчит пациент.
Его голова перебинтована и так с ходу не разберешь, не спит ли, поэтому уточнение отнюдь не лишнее. А она порывисто усаживается на кровать и обнимает сына. Скучала. Глупо было бы думать, что нет. Нужно позволить им побыть наедине, только сначала придется навести порядок. Начинаю собирать розы. С тряпкой кого-нибудь пришлю позже. Только бы от этой семейки подальше.
Как Харитонову вообще удалось опрокинуть вазу именно на кровать? Поймать, что ли, пытался? Ну почему все вот так вкривь-то? Ну ведь досадно же… И это, и вообще все. Может, виновата неожиданность? Я никак не думала, что он вдруг меня… коснется так. Дело именно в этом, я уверена. Но неловко ужасно, а тут еще родители Кирилла подоспели… Черт…
Прижав пустую вазу с розами к груди, направляюсь прочь из палаты. Но ведь нельзя молча. Неприлично!
— Простите, я дам вам время, а потом вернусь. Если есть вопросы…
— Благодарю, мы бы предпочли переговорить с его лечащим врачом, — прилетает мне ответ.
— Как угодно, — говорю, не уточняя, что именно я им и являюсь.
Что врать? У меня с Харитоновыми отношения сложные и многогранные. С сегодняшнего дня даже пугающе многогранные. Это все наркоз, наркоз! Бросаю взгляд на Кирилла. Лица не видно, но голова ко мне повернута, одеяло в кулаке сжимает. Дьявол, он придет в себя, у него все пройдет, а я? Смогу ли я забыть случившееся? Забыть зрелище выступивших вен на тыльной стороне ладони…
— Она и есть лечащий врач, — радует родительницу Кирилл, не дав мне возможности уйти от ответственности.
И это «она» звучит странно, непривычно. Не доктор Елисеева, не Жен, не даже шутливое Жен Санна. Просто «она». Разница, стертая морфием. И могло бы прозвучать оскорбительно, пренебрежительно, если бы не интонации. Такие личные.
— О… извините, — тут же говорит Галина Харитонова. Искренне.
Черт! Я-то уже приготовилась к колкому противостоянию (эх, привычка). Но она просто приняла меня за медсестру. С другой стороны, за кого еще она могла меня принять, если я по палате розы собираю? Хоть не за уборщицу, и на том спасибо!
— Налью воду в вазу и вернусь. У вас наверняка есть вопросы.
Из палаты я выхожу очень медленно, оглядываясь по сторонам, и предосторожность, уверяю, отнюдь не лишняя. Меня все ненавидят. И раньше за Капрановские привилегии не особо жаловали, а теперь совсем плохи дела. Павла не поскупилась на обидные обвинения. Как только она просекла, что за наш счет можно обелить собственное доброе имя — тут же воспользовалась. Не она ведь врала всей больнице — ладно, и она тоже, — но, вы гляньте, эти двое пошли против указаний главврача, вредят пациенту, и даже в известность никого не поставили! Хамы! Нахалы! Уууу, паразиты! Но, спорю, перед Хариновыми будет плясать, что кобра под дудочку, даже нас с Капрановым начнет облизывать.
— Лина, в палате Счастливчика (намеренно избегаю называть его Кириллом) все еще лужа. Пошли кого-нибудь, пожалуйста.