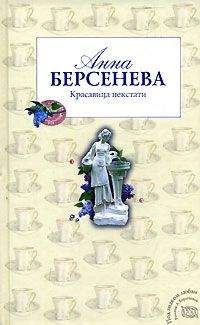– Дура я, по-твоему? – Вера сделала обиженное лицо.
– По-моему, нет.
– Мне грустно, что ты будешь так далеко от меня. Ты у меня большой уже, я понимаю. Но сейчас ты все-таки где-то рядом, приходишь ко мне, и я к тебе могу прийти. А до Техаса попробуй дойди! И почему, кстати, Техас? Алиса ведь на Бродвее играет. А Бродвей, насколько мне известно, в Нью-Йорке.
О том, что девушка, которую она неделю назад увидела в квартире сына, является актрисой бродвейского мюзикла, Вера узнала в тот же день от самой этой девушки. Она оказалась общительна, как все американцы, и сразу сообщила, что зовут ее Алиса Давенпорт, что она отработала в Москве театральный сезон на мюзикле «Главная улица», но теперь должна вернуться обратно в Нью-Йорк. Вера сразу же выудила из нее и те сведения, которые считала для себя главными: что с Тимом эта Алиса знакома две ночи, что эти ночи ее ошеломили, и, похоже, не сексом. Это почему-то усилило Верину тревогу, хотя она и убеждала себя, что девушка просто охвачена стихией московских страстей, а когда вернется домой, то сразу же окунется в совсем другую, более прагматичную стихию и про Тима забудет.
«Это у нее исторический атавизм, – подумала Вера. – От русской бабушки. Пройдет!»
Пока они вместе распаковывали микроволновку и обогреватель, Алиса успела сообщить, что у нее была русская бабушка, то есть вообще-то она была еврейка, ее звали Эстер Левертова, но она родилась в России и прожила в Москве до двадцати с чем-то лет.
Вообще-то с ней легко было разговаривать, с этой Алисой Давенпорт. Может, в самом деле из-за московского происхождения ее бабушки. Когда она прямо смотрела Вере в глаза этими своими необыкновенными глазами, с ней говорилось как-то само собою, притом о таких вещах, о которых и с близким человеком не сразу разговоришься. Вера даже почему-то рассказала ей о папе. То есть, если подумать, вовсе и не почему-то: эта Алиса каким-то неведомым образом догадалась, на кого похож Тим, и слушала про его деда так внимательно, как будто это имело решающее значение для ее жизни. Странная девушка, непонятная!
И вот теперь, всего неделю спустя, сын сообщает, что уезжает с этой непонятной девушкой в Америку. И не в гости едет, а собирается жить на техасском ранчо, которое досталось Алисе по наследству от американского деда и его жены, той самой, московского происхождения бабушки. И мало что жить собирается – уже прикидывает, сколько там можно будет развести коней! И вид у него при этом такой отрешенный, что сразу понятно: всего его занимают сейчас только эти дурацкие кони, а совсем не мамина печаль.
Впрочем, в том, что значит его отрешенный вид, Вера как раз ошиблась.
– Да. Алиса работает на Бродвее, – сказал Тим. – И поэтому не может жить в Техасе. Хотя она родилась на этом ранчо, все детство там провела и очень его любит. Она ведь его потому и не продала – в аренду сдавала.
– Тогда я совсем ничего не понимаю! – воскликнула Вера. – Она тебя что, зовет в Америку, потому что ей арендатор на ранчо нужен?
– Знаешь, мам… – Тим улыбнулся странной улыбкой – смущенной, изумленной, почти детской. Вера никогда у него такой улыбки не видела. – Знаешь, мне кажется, она меня зовет только потому, что любит. И больше нипочему.
– Сомнительная причина! – фыркнула Вера.
– Для нее, насколько я понял, несомненная. Ей, кстати, когда-то бабушка сказала, что это единственная причина, которая достаточна для любого поступка. Во всех остальных случаях надо подумать, а в этом – не надо. А она же в бабушку пошла, – улыбнулся Тим.
– Ну, и ты в дедушку пошел. – Вера не выдержала и тоже улыбнулась. И тут же по ее лицу пробежала печальная тень. – Не знаю, Тимка. Может, ты и прав. Будешь жить на вершине голой, писать простые сонеты и брать от людей из дола хлеб, вино и котлеты. Об этом же ты мечтал?
– Во-первых, это не я мечтал, а Саша Черный. А во-вторых, ничего я ни у кого не собираюсь брать. Разве что у американского государства. Оно, оказывается, субсидии дает на сельское хозяйство. Вот это, я понимаю, грант на написание поэмы!
Вера хотела сказать, что ей невыносимо тяжело будет без него, что Атлантика, которая вот-вот их разделит, кажется ей бескрайней… Но сказать это было нельзя.
– Как же вы все-таки устроитесь? – стараясь, чтобы голос звучал спокойно и даже по-деловому, спросила Вера. – Ты в Техасе, она в Нью-Йорке? Это же только отсюда кажется, что близко. А на самом деле как от Москвы до Сибири.
– Я знаю.
Сын смотрел широкими, скальными глазами своего деда.
– Вы же измучаетесь через год!
– Ну посмотри ты на меня, мам, – помолчав, сказал Тимофей. – Думаешь, я позволю, чтобы она мучилась?
– Чтобы она – думаю, не позволишь, – вздохнула Вера. – А сам?
– А сам – жизнь подскажет.
Он умел слышать подсказки жизни, ее мальчик. Он умел это гораздо лучше, чем она сама. В своей-то жизни Вера только один раз расслышала эту странную, необъяснимую подсказку – когда родила его двадцать семь лет назад.
– Я ее люблю, мам. – Тим посмотрел все тем же растерянным, незнакомым взглядом. – Прямо как на чашке написано. Кстати, у нее тоже такая чашка есть.
– Знаю. Она мне показывала.
Алисина чашка, о которой вспомнил Тим, в самом деле была точно такая же, как та, которую и он сам, и даже Вера помнили с детства. Она и сейчас стояла у Веры в буфете, эта чашечка старинного гарднеровского фарфора. На ней красовалось вырисованное мелкими розочками пылающее сердце, в центре сердца нежно синела незабудка, а под сердцем старинной вязью было выведено: «Ни место дальностью, ни время долготою не разлучит, любовь моя, с тобою».
Вообще-то Вера эту чашку не любила. От мамы она знала, что ее подарила когда-то отцу его первая жена. Вера с детства терпеть не могла всяких сентиментальных красивостей, воплощением которых казалась ей эта надпись. А Тимке, наоборот, надпись нравилась. Он говорил даже, что по этим словам впервые понял, что такое поэзия.
И вдруг выясняется, что у Алисы есть точно такая чашечка! И тоже из разряда семейных реликвий – досталась от бабушки, – а потому она повсюду возит ее с собою. Когда они пили кофе у Тима в башенке, Алиса налила его Вере как раз в эту чашку.
Впрочем, Вера не находила в себе сил для того, чтобы удивляться такому совпадению. Ну, чашка и чашка. Две чашки. Делали же и двести лет назад сервизы.
– Когда ты уезжаешь, Тимка? – спросила она.
– Мам, ну что ты? – Лицо у него стало расстроенное. – Думаешь, я уеду и про тебя забуду? И стакан воды не подам?
Он улыбнулся – конечно, чтобы ее ободрить.
– Ну тебя! – Вера тоже улыбнулась. – Рано мне еще стакан воды просить. Так когда едешь?
– Похоже, не очень скоро. Надо же визу получить. То есть расписаться. В смысле, жениться.