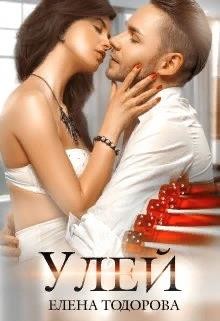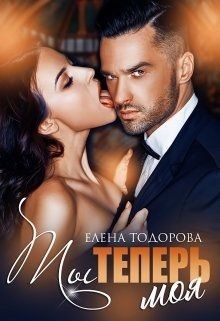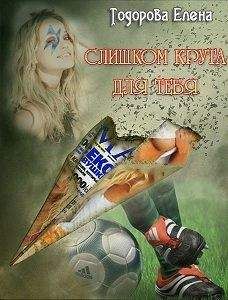Девушка приоткрывает рот и жадно хватает воздух, пытаясь как-то задержаться в этом мире.
«Нет! Нет! Нет!»
«Этого не может быть!»
Зажимает рот ладонью и на пятках оборачивается, чтобы покинуть помещение. Спрятаться от убийственного взгляда Титова.
Только он не позволяет ей уйти. Вскакивает и нагоняет. Впиваясь пальцами в хрупкие плечи, разворачивает Еву к себе лицом и безжалостно прожигает ее взглядом.
— Даже если ты уйдешь, это ничего не изменит. Исаева, — выплевывает ее фамилию, словно невиданную мерзость. Скользнув ладонью на затылок девушки, взбивает и путает пальцами волосы. Она не пытается сопротивляться. Просто каменеет в его руках и смотрит, как будто, сквозь него. — Не молчи, черт тебя подери!
— Что ты хочешь услышать, Адам? — тихо спрашивает Ева.
Сейчас она повторит все, что он захочет. Только это будут не ее слова. Она напялила очередную маску и отгородилась от происходящего.
— Отомри, мать твою, — встряхивает ее Титов. — Я хочу, чтобы ты сказала то, что думаешь. Говори, Ева!
После этих слов по венам Исаевой растекается огонь ярости. И ненависти ко всему миру. К отцу. К Титовым. Тому, мертвому. И этому, живому.
Почему она должна переживать за них? Почему ее должны беспокоит чьи-то чувства? Зачем Титов пытается вывернуть ее наизнанку? Зачем причиняет еще большую боль?
«Ненавижу тебя, Адам!»
«Ненавижу вас всех!»
«Всех!»
Судорожно вздыхая, равняется с Титовым взглядом. Видит гремучую смесь эмоций, что кипят внутри него и, конечно же, решает добавить огоньку.
«Бей, что есть силы!»
— Если мой отец имеет какое-то отношение к смерти твоего, — медлит, но все-таки хладнокровно заканчивает начатое. — Наверняка, он это заслужил. Вот что я думаю, Адам.
Не успевает даже вскрикнуть, как он приколачивает ее к стенке.
— Это ложь, — орет Титов, впечатывая кулак рядом с ее головой. — Это ложь! Ты так не думаешь.
— Думаю! Именно так я и думаю, черт тебя подери, — упрямо выкрикивает ему в лицо Ева.
В следующее мгновение Адам, должно быть, собирается ее убить. Она видит, как в его глазах с ее легкой руки рушатся все здравые чувства. Расширившиеся зрачки отражают лишь безумный гнев.
Закрывая глаза, Исаева ждет, когда ее накроет волна физической боли. Но секунды бегут, а этого так и не происходит.
Руки Титова, задевая ее напряженное тело, просто опускаются вниз.
— Убирайся, мать твою, — зло выдыхает он, едва Ева поднимает веки. — Сейчас же, пошла вон, Исаева! Сейчас же!
Остаток ночи дочь морского полубога и наследница миллионного бизнеса проводит в дешевом гостиничном номере. Ежась и дрожа, но не от холода, а от собственных мыслей, Ева переживает худшие минуты своей жизни.
Даже когда тело немеет, сердце продолжает все так же сильно биться. Она не пытается уснуть. Лишь надеется, что с течением времени получится спокойно дышать и не думать о том, что сказал Адам.
И о том, что она ему сказала.
«Все не так».
«И вообще, этого не может быть».
«Титов сказал это, чтобы причинить мне боль».
Но сколько ни обманывайся, сердце чует правду. Хриплый голос Титова, будто на перемотке, снова и снова повторяется в ее голове и навсегда уносит из тела Евы покой.
Далеко не все в ее возрасте знают, как больно молчать, когда изнутри тебя рвется оглушительный крик.
31
День сорок третий
Больше суток у Евы уходит на то, чтобы прийти в себя. Домой она возвращается как с поля боя: в грязной потрепанной одежде и ссадинах, с колтуном на голове и мешками под глазами.
Просканировав дом отрешенным взглядом, едва в состоянии воспринимать информацию, старательно вслушивается в голос дедовой сиделки.
— …вчера вечером уехали в Конча-Заспу [37]… будут завтра… только не по ковру… сколько грязи…
Проявляя упорство, Исаева приводит себя в относительный порядок и укладывается спать. То ли отсутствие родителей сказывается, то ли просто скопившаяся усталость — она спит оставшуюся половину дня и всю ночь. Слабо реагирует на появление в комнате дедушки Алексея и Лидии Михайловны. Видимо, все-таки являет собой печальное зрелище, они не настаивают на том, чтобы Ева поела. Тихо выходят за дверь.
В понедельник она ведет себя, как обычно. Собирается в академию, завтракает в тихой компании дедушки, отсиживает положенных пять пар, по дороге домой заезжает в магазин за кое-какими средствами гигиены, оставляет на ресепшене частной клиники небольшую посылку со сладостями и фруктами для Дашки, катается по городу.
Длинный и спокойный день.
Без тревоги и огорчений. Без суеты и желания куда-то бежать. Еве просто хорошо от своего одиночества. Хоть она и понимает, что ни одна из ее проблем не решилась.
Родители, а правильнее сказать — люди, которые произвели ее на свет, названивают бессчетное количество раз, начиная еще с того пьяного вечера.
Ева все игнорирует. Даже сообщения матери удаляет, не глядя.
Ей нужен перерыв, чтобы не сломаться.
В начале седьмого вечера Исаева, все еще в форменном костюме, стоит перед окном и неторопливо пьет кофе. Ей нравится не столько вкус этого напитка, сколько его запах. Крепкий и бодрящий. Перебивающий своей силой все другие ароматы. Непреодолимый.
Ева ценит все, что имеет силу.
Умиротворение покидает ее, когда во двор въезжает темно-серый седан. Отец паркует авто на подъездной дорожке, не доезжая до гаража, и сердце Евы начинает биться с утроенной силой. Она со стуком опускает чашку на столик и, спотыкаясь, бежит в комнату деда.
— Дедушка, — кричит громко и взволнованно, но пытается смягчить это улыбкой. — Посиди со мной, пожалуйста, — в голосе девушки слишком много умоляющих нот, чтобы Алексей Илларионович, всегда охотно баловавший ее своим вниманием, вдруг захотел ей отказать. Но для верности, Ева приправляет свою просьбу обещанием, которое, несомненно, его порадует. — Я сыграю на фортепьяно.
Заручившись согласием деда, ловко подцепляет ручки инвалидного кресла и быстро прокатывает его через длинный холл в библиотеку. Останавливаясь перед музыкальным инструментом, к которому она не прикасалась четыре года, на мгновение замирает неподвижно. Ей бы хотелось, чтобы эта чудовищная конструкция, бесчисленное количество раз вызывавшая в ней боль и ненависть, стояла в слоях обезображивающей пыли. Но, естественно, это не так. Неиспользуемое годами фортепьяно, как и прежде, сверкает идеальным черно-белым глянцем.
Ева садится на мягкое сидение, словно опускаясь на дно своих воспоминаний. Возвращается в свое детство. В те времена, когда она, слушая наставления репетитора и чувствуя неусыпное внимание матери, просиживала за музыкальным инструментом по несколько часов в день. Воскресшие в сознании ноты и мелодии заставляют ее руки мерзнуть и дрожать.
— Что исполнить? — еле слышно спрашивает дедушку.
— Я буду счастлив слышать любую мелодию в твоем исполнении, русалочка.
Речь Алексея Илларионовича болезненно растянута, но Ева хорошо его понимает и улыбается, слыша свое детское прозвище.
При первом касании гладких холодных клавиш, ее пальцы начинает покалывать. Она испытывает сомнения и нерешительность. Проговаривая название музыкального произведения Чайковского, она не уверена, что вспомнит его ноты.
— Ноктюрн до-диез минор, — запрещенное и, казалось бы, давно забытое словосочетание вызывает мурашки.
Первые ноты не выдерживают никакой критики. Слишком сильные, слишком резкие. Практически ударные. Но далее Ева концентрируется, и перекат музыки превращается в душевную волнообразную трель. Плавную и мелодичную. Тонкую и чистую. Словно волшебная рябь по застывшему воздуху.