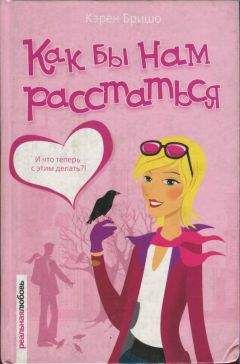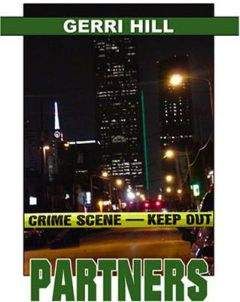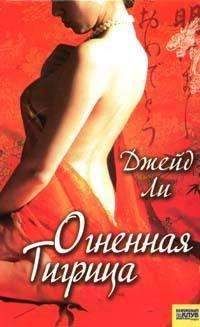— Уичита, — говорит он, захлопнув за собой дверь черного хода на кухне. Он стискивает мне плечи, потом снимает пальто: — Мать позвонила мне в контору. Ей нужно кое-что из вещей.
— Они останутся в больнице на ночь?
Он похлопывает себя по груди.
— Они там неплохо все придумали. Без помощи мою девочку не оставят. — Покопавшись в кармане рубашки, он передает мне клочок бумаги: — Вот список.
Я опускаю глаза и вижу целый перечень. Одеяло. Мягкая игрушка-зверюшка. Кружка. Библия. Список составляла явно не Джина.
Отец вытаскивает из холодильника пиво. И только тут я понимаю: мама позвонила отцу, чтобы передать этот список, но собирать вещи будет не он.
— Так ты еще раз был в больнице? — спрашиваю я, хотя и без этого знаю ответ.
— Что? — Он срывает крышечку с банки. — Нет. Я только подъезжал туда. — Затем он бочком выскальзывает из кухни (по-другому просто не скажешь). Секунду спустя телевизор уже включен, и я слышу голоса эксгибиционистов, участвующих в вечернем ток-шоу на эту тему.
Эти голоса звучат так… одиноко. Как крики гусей ночью, в темноте, поздней осенью пролетающих у вас над головой, на высоте тысячи футов. Только в этих визгливых голосах отсутствует романтика осеннего перелета — осталось лишь невыносимое одиночество.
Весь день таращусь в окно. Вот машина. Вот стая птиц.
Пожатие. Похлопывание. Три фразы. Потом голоса людей за тысячу миль от меня теряются в осенней ночи.
Я не отрываю глаз от пальто и кейса, лежащих на кухонном столе. Маме что, приходится каждый вечер убирать эти пальто и кейс, прежде чем приступить к приготовлению ужина?
Я беру телефон и звоню в больницу. Номер приклеен к стене вместе с номерами пожарного управления, пастора, полиции и даже службы «911». Мне отвечает дежурная. Я спрашиваю ее, какой номер в палате Джины.
Пожарное управление, пастор, полиция, служба «911», средняя школа, салон-парикмахерская на Четвертой улице…
В списке нет рабочего телефона отца.
— Мама, здравствуй, — говорю я, когда мама берет трубку. — Как Джина?
Молчание.
— Мама!
— Хорошо, — отвечает она. — Все хорошо.
— Папа только что вернулся, — говорю я. — Он передал мне список. — Я прочитываю ей список. — Что-нибудь еще нужно?
— Приноси что хочешь, мы всему будем рады. — Ее голос звучит так, как будто она испытывает жестокие муки: избиение камнями или что-то в этом роде. Служит живой мишенью для лучников. Ее разрывают львы. Что бы я ни принесла, они всему будут рады.
Так дело не пойдет.
Забивший было родничок жалости моментально пересыхает.
Я копаюсь в вещах, чтобы найти то, что перечислено в списке, и бросаю все это в коробку, куда добавляю несколько широких рубашек из чулана Джины. Я никогда не лежала в больницах, но читала достаточно открыток оттуда, чтобы понять, что больничные рубашки удобством не отличаются. Когда я возвращаюсь на кухню, то вижу, что на кейсе отца лежат ключи от машины, оставленные на самом видном месте. Намеренно? Я даже не спрашиваю, хочет ли он поехать со мной.
Дорога в больницу идет мимо «Бургер Кинг». В окружающий ландшафт внесено добавление: какое-то скорбное дерево и остатки погибшей растительности, покрытые снегом.
— Что ты хочешь сделать в жизни? — спросила я Джонза, когда мы с ним уселись в нашем отсеке и взяли с подноса свои бургеры и жаркое. Никто из тех, кто знал, что к чему, на подносах не ел. Не потому, что это некрасиво. Если вы видели, как двести-с-чем-то дней в году за прилавком стоит парень, засунувший пластиковые соломинки себе в нос и выпускающий через них молоко, вы не будете есть на тех подносах, протирать которые входит в его обязанности. Нормальные люди, взрослея, уже не позволяют себе такие шуточки. И то, что именно этот представитель рода человеческого никак не мог миновать этой стадии развития, было своего рода предупредительным знаком — «Осторожно! Антисанитария!».
— Мне надо решить прямо сейчас? — спросил Джонз, кладя наши подносы поверх стопки в ближайшем контейнере для грязных подносов.
— Тебе ведь уже семнадцать, — заметила я.
— И что?
— Тебе что, все равно, что говорит консультант по выбору профессии?
— А тебе?
Конечно, мне тоже все равно. Но я кое-что предприняла. Я взяла свой рюкзак, вынула оттуда и передала Джонзу письмо, которое получила накануне вечером. Оно меня испугало. И взволновало.
Джона перевернул конверт и взглянул на впечатляющую печать:
— Это прислали тебе?
Я поелозила на пластиковом стуле, затем закинула в рот кусок жаркого по-французски и кивнула головой.
— Кто бы мог подумать, — сказал он. — Не знал, что ты способна на такое.
Я пихнула его ногой под столом. Он в ответ пихнул меня. Мы оба ухмыльнулись. Я никогда не послала бы заявление о приеме в университет Чикаго, если бы Джонз не вывернул мне руку. В буквальном смысле слова. Вообще-то это был скорее армрестлинг. Если выигрывала я, то должна была подать заявление в какой-нибудь двухгодичный колледж и поставить на себе крест. А если побеждал он, то мне надо было послать заявление в какое-нибудь высшее учебное заведение, одно из тех, название которых у всех на слуху.
Может быть, я ему поддалась.
Джонз вынул из кармана не менее внушительный конверт.
— Меня приняли на два факультета, — сказал он. — На изобразительное искусство и на историю искусств.
Я схватила его письмо:
— Не может быть!
— Твоя вера в меня придает мне сил.
Дело не в том, что он тоже послал вступительное заявление, а в том, что намечался второй тур борьбы. И на этот раз выиграла я.
— Чего разбазарились? — спросил нас Мистер Соломинка-в-Носу, забирая подносы. — Ослы тупорылые.
— Эй, тупорылая! Ты паркуешься или как?
Я моргаю и возвращаюсь к действительности. Вижу, что зажглась зеленая стрелочка левого поворота. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида и обнаруживаю, что парень позади меня — один из тех, что полны любви ко всему человечеству и ездят на пикапах, окрашенных в два цвета, — подозрительно напоминает Мистера Соломинку. Изменилось ли хоть что-то в этом городе? Или «мистеры соломинки» женятся и производят на свет новых маленьких «соломинок», идущих работать в «Бургер Кинг» и в семнадцать лет все еще выпускающих молоко из носа?
Я в бешенстве пожимаю плечами. В Чикаго меня почему-то не раздражает, когда мне в ухо гудят автомобильной сиреной, когда разные психи оскорбительно тычут вверх средние пальцы и когда ставится под сомнение мое происхождение и умственные способности. Это часть той игры, в которую мы все играем. А в Хоуве все оскорбления почему-то воспринимаются как направленные против тебя лично.