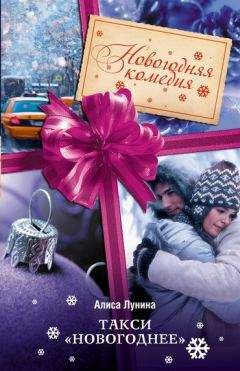Старшая акушерка, которая теперь неотрывно смотрит на то, что происходит между ног Элис, говорит:
— Вот он идет, наш маленький. Уже и маленькая головочка показалась, — повторение слова «маленькая», без сомнения, имеет иронический смысл, потому что Элис-то выглядит так, будто ее вот-вот разорвет пополам. — Тужься сильнее, дорогая. Ты же хорошая девочка.
Она тужится еще сильнее, и я чувствую, с какой силой она это делает. Она сейчас в другом мире, в мире необычайных физических мук и напряжения всех сил, а нам остается только смотреть на это.
— А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а…
И тут я вдруг вижу головку ребенка. Я никогда не думала, что она, такая ужасно безобразная — во всей этой крови и слизи и водах, — может одновременно быть и такой необыкновенно прекрасной. Это жизнь в своей самой незамутненной, самой концентрированной форме. И внезапно, в этот самый момент, я чувствую, что и сама я — часть этой жизни. Как гордый и счастливый отец.
А когда младенец наконец уже полностью выходит, — крича так громко, как только и может кричать человек, девять месяцев проведший в уютной теплой матке, а потом вышедший во внешний мир, где его встречают какие-то подозрительные личности, к тому же перевернутые вверх ногами, — старшая акушерка и врачи осматривают его и очищают ему кожу.
— У вас мальчик, — говорит Элис старшая акушерка и нежно отдает малыша ей в руки.
От прикосновения его нежной, сморщенной кожи на глазах Элис появляются слезы.
Все в комнате обмениваются добрыми, довольными улыбками, и на минуту мир вокруг становится близким к совершенству.
Элис выглядит обессиленной, все жизненные силы как бы высосаны из нее, но по какой-то непостижимой причине сейчас в ее глазах гораздо больше жизни, чем я видела когда-либо раньше.
— Мой ребенок, — говорит она, перекрывая его плач и глядя на его крохотную розовую головенку, всю в морщинках, — мой замечательный малыш.
Сейчас уже утро субботы, и ребенок Элис давно не кричит. Крик этот звучит у меня в голове. А я ведь еще ей не сказала. Маме.
Я попыталась позвонить ей с час назад, но она, наверное, уже уехала.
Я ясно представляю ее себе. С опаской едущую по полосе скоростного движения, всю подавшуюся вперед над рулем, бормочущую: «Какое прекрасное утро», улыбающуюся в предвкушении события, которого ждала больше года. Встречи с Эдамом. Меня начинает тошнить.
С утра я еще ничего не ела, но знаю, что меня вот-вот вырвет.
Я бросаюсь в ванную комнату и наклоняюсь над унитазом. Ничего. Я опять наклоняюсь. Изо рта выливается слабая струйка. Это же глупо. Давай соберись, Фейт.
Тебе нужно все ей рассказать. Тебе нужно сказать ей правду. Правду.
Я снова наклоняюсь. Еще чуть-чуть воды, и больше ничего.
Мам, я забыла тебе сказать кое-что. Я просто скажу ей, что мы расстались. Сложно будет это сделать? Если и в самом деле так сказать? В конце концов, это же правда.
Но она мне не поверит. Она будет думать, что никакого Эдама и не было.
Давай, давай. Сделай глубокий вдох. Я иду в спальню и накладываю косметику. Обычно это меня успокаивает, но не сегодня. Крем-основу я накладываю в жуткой спешке, прислушиваясь, не подъехала ли ее машина.
Я никак не могу успокоиться. Чуть не выкалываю себе глаз, накладывая тушь.
Потом смотрюсь в зеркало и понимаю, что с косметикой перестаралась. Мама скажет что-то вроде того, что я выгляжу вульгарно, или неудивительно, что я не могу удержать мужчину, или обо мне может создаться неправильное впечатление.
Я быстро все стираю и перехожу к более легкому варианту. Тонированный увлажняющий крем, бледно-розовый блеск для губ и все же тушь для ресниц.
И тут я слышу этот звук.
Машина.
Черт, как она рано. Ну, конечно, она и должна была приехать рано. Она не в состоянии больше ждать ни минуты. Она села в свой «Рено», свой «мамо-мобиль», часов в пять утра. Я бегу в гостиную, и мой ужас находит реальное подтверждение. Я вижу, как она старается втиснуться в пространство не больше спичечной коробки и встать параллельно другим машинам.
Как только двигатель заглушён и поставлен на ручной тормоз, она наклоняется вперед на своем сиденье и видит меня у окна.
Она машет мне рукой и улыбается.
Я машу ей в ответ и с трудом выдавливаю улыбку.
Пока она запирает дверцу автомобиля и торопливо, мелкими шагами, перебегает через дорогу, я понимаю, что все будет гораздо труднее, чем я себе представляла. Я панически оглядываю свою гостиную.
Не-а, никакого бойфренда.
И в следующие пять секунд я, похоже, не смогу его создать, если только не превращусь в Виктора Франкенштейна.
Ладно, говорю я себе, направляясь в прихожую. Так вот. Идя к матери, лицо и фигура которой искажены рельефным стеклом двери, я четко осознаю, что все мои выдумки на протяжении трех месяцев — коту под хвост.
— Здравствуй, мама, — говорю я, открывая дверь.
— Здравствуй, родная, — отвечает она и переступает порог, чтобы обнять меня.
Я тоже ее обнимаю, вдыхая запах ее волос, на миг забывая, почему я так боялась этого момента. Я как можно дольше не отпускаю ее, не потому, что это входит в мой тактический план, а просто потому, что мне так нужно было это объятие. Что бы потом ни случалось во время наших встреч с ней, но это всегда бывало самой важной их частью. Это всегда поддерживало нас с ней, когда мы встречались в выходные, особенно с тех пор, как умер папа. За эти пять секунд, секунд молчания, мы узнаем друг о друге больше, чем во время продолжительных телефонных разговоров. Но объятия не могут длиться вечно. Ее руки на моей спине обмякают, она отстраняется, а ладони ложатся мне на плечи.
— А где же он? — спрашивает она. — Где этот таинственный незнакомец?
— Хочешь чаю? — спрашиваю я маму, оставляя ее вопрос без ответа.
— Неплохо было бы, — говорит она.
Она проходит через прихожую, не проверив, есть ли на ковре пыль, что меня уже настораживает. Это плохой знак, он снова напоминает об основной, если не единственной, цели ее приезда. О том, что она должна познакомиться с человеком, которого здесь нет.
— Хэлло, — говорит она сразу же, как входит в квартиру. И сердце у меня падает, когда я наливаю воду в чайник, когда оборачиваюсь и вижу, как она заглядывает в гостиную, затем в кухню, а потом в спальню. — Он в туалете? — в конце концов спрашивает она.
— Нет, — отвечаю я, понимая, что вот, началось. Мое очищение. — Видишь ли, мама, дело в том, что… — я смотрю на ее лицо, за последние три года постаревшее больше, чем за предыдущие десять лет. — Дело в том…