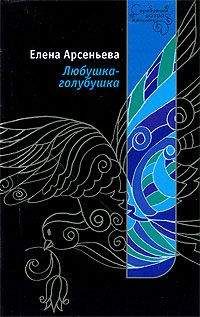Юля знала, что спектакль получился, что ничего подобного в театре давно не было, что он будет иметь большой успех, потому что все они – и актеры, и художник, и работники цехов – выложились без остатка. Но больше всего Юля хотела бы увидеть понимание и, возможно, восхищение в глазах этого сидевшего всегда на одном и том же месте в первом ряду ничем не примечательного и, честно говоря, не особенно приятного человека.
Однако на премьеру «Алых парусов» Павел не пришел, и его кресло в первом ряду зияло пустотой, уродуя вид, как недостающий зуб портит самую ослепительную улыбку.
– Что, не пришел наш с тобой оппонент? – устало улыбнулась Юле Светлана Николаевна. – Жаль. Я тоже все думала: вот придет, вот увидит и поймет, какой он был мерзавец, что нам с тобой, таким замечательным и талантливым, тогда денег не дал.
Юля только кивнула (на большее после тяжелого спектакля она была не способна).
– А ты молодец, Юлька! Не ошиблась я в тебе, – негромко продолжала Тарасова. – Если бы не ты, мы бы сразу в сентябре и загнулись бы, даже открываться было нечем.
– А так загнемся в апреле, – одними губами усмехнулась Юля. – Дальше-то что делать будем? Денег все равно нет. Я, Светлана Николаевна, уже жалею, что те деньги ему обратно отдала. Ну, Ирка которые принесла, в конвертике. Лучше бы я взяла. Ничего, не сахарная, не растаяла бы.
– Да уж, это ты, дорогая, маху дала, – смеясь, обняла ее за плечи Тарасова. – Ирка, понимаешь, зарабатывает, не щадя себя. Просит денег, и заметь: нам с тобой он не дал, а ей – пожалуйста! А ты строишь из себя недотрогу всем в убыток.
– Так вы же тоже не согласились взять… – вздохнула Юля.
– Ну и не жалей, Юлька! До сих пор выкручивались и сейчас что-нибудь придумаем. Ты такой спектакль сделала! Помяни мое слово, мы с ним еще по фестивалям покатаемся. А не пришел твой Мордвинов потому, что в Питер уехал, еще в ту субботу. Ирка сказала, а уж она-то знает. Так что пойдем, моя дорогая, еще по рюмочке выпьем и наплюем на все, кроме нашей победы! И не сутулься, что за новости? Держи хвост пистолетом!
Тарасова подхватила слегка упиравшуюся Юлю и потащила туда, где все шумели, смеялись, произносили тосты, целовались и были счастливы – хотя бы в этот вечер.
Дома Юля долго не могла уснуть – не отпускали впечатления дня. А уже под утро ей приснился сон: какая-то старуха в чепце и ночной рубашке лежит на огромной кровати. В комнате остро пахнет лекарствами. Горит свеча – ночь. В круге колеблющегося света сидит какой-то странный человек в сюртуке и, перебирая в лежащей перед ним папке листки, бормочет себе под нос:
– Так-с… Опека… установленный вызов кредиторов к предоставлению в девятимесячный срок своих претензий, каковых поступило на сие числа 25 апреля 1837 года на сумму 92 500 рублей… Портному мастеру Ручу по счету четыреста пять рублей ассигнациями… Прапорщику Юрьеву по заемному письму 1836 года 19 сентября десять тысяч рублей… Купцу Богомолову по тетради за разные припасы шестьсот четырнадцать рублей восемьдесят четыре копейки… Вдове Катерине Оберман по счету за дрова пятьсот шестьдесят один рубль семьдесят пять копеек… Господину полковнику Жемчужникову по заемному письму…
– Не-на-вижу, – вдруг тихо, но отчетливо произнесла старуха.
– …третьего июля 1830 года в число 12 500 рублей, за уплатою двадцать четвертого декабря 1831 года 7500 рублей, остального капитала заплачено 5000 рублей, указанных процентов с третьего июля 1832 года по первое мая 1837 года за четыре года и 267 дней 1389 рублей, итого шесть тысяч триста восемьдесят девять рублей…
– Ненавижу! – вдруг страшно закричала старуха, поднимаясь на своей необъятной кровати. – Полвека! Прошло уже полвека! Почему вы не оставите меня в покое?!
Но Павел все-таки был на премьере. Самолет из Питера прилетел в семнадцать тридцать, всю дорогу он так торопил шофера, что триста с лишним километров пролетели меньше чем за три часа – кто знает эти дороги, тот кивнет уважительно. И все-таки успел на второе действие!
Зачем ему было так остро необходимо попасть на премьеру, он, пожалуй, и сам не мог бы сказать точно. Надо было, и все. Отчего-то было важно. И Павел очень хотел, чтобы у них – у директрисы, у Александры, у Ирки, у Юли, у Тани (которая, Ирина ему рассказала, ради этого спектакля продала машину), даже у Петьки, которого он и видел-то всего несколько раз, – все получилось. Привык он к ним, что ли?
Когда они подъехали к Дворцу культуры, уже началось второе действие, поэтому Павел прошел в зал через дальние двери и пристроился на свободное место в последнем ряду. На директора никто не обратил внимания, и он был этому рад. У него был хитрый план: если спектакль ему не понравится, он просто уйдет, и не придется потом ничего говорить. А если понравится, то он тоже улизнет, потому что даже цветов не успел купить, а с пустыми руками припираться неудобно. Да и устал он чертовски: утром вылетел из Рима, а потом болтался в Шереметьеве в ожидании отложенного рейса.
Зал был полон. Приноровившись, Павел нашел ракурс, при котором он видел из-за спин впередисидящих хотя бы часть сцены. Он сразу узнал Сашину мать, одетую в темное строгое платье. Ее партнер, молодой красивый парень в белой рубашке с распахнутым воротом и шарфом на поясе вместо ремня, Павлу был незнаком. Мордвинов стал слушать.
– Но я не думал…
– О нас? Дети редко думают о родителях. Им кажется, что родители вечны. Скажи, Артур, а если я сейчас попрошу тебя остаться, потому что я не переживу новой разлуки?
– Вон там, на рейде, стоит мой корабль, мама. На «Секрете» меня ждут пятьдесят человек. Это моя команда, я – их капитан. Я не имею права их обмануть.
– А ты совсем не изменился, Артур. Ты, как в детстве, готов отдать все ради понравившейся игрушки.
– Но это не игрушки, мама.
– Просто у мужчин свои игрушки. Материки, океаны, корабли – теперь мой мальчик забавляется этим. Что ж, надеюсь, Артур Грей справится со своими игрушками. Но обещай мне, Артур, что ты больше никогда, слышишь – никогда! – не исчезнешь вот так, просто не выйдя к завтраку.
– Я обещаю тебе, мама!
Артур, простившись с матерью, ушел. Оставшись одна, она смотрит ему вслед, шепча слова молитвы, и ее голос прерывается от волнения:
– Пресвятая Дева Мария, заступничества твоего умоляю… прошу Тебя о всех плавающих, путешествующих, болеющих, страдающих и плененных… и мальчику моему…
От этого «И мальчику моему…» у Павла вдруг тоже перехватило горло. Он вспомнил свой разговор с мамой перед отъездом в Надеждинск; она тоже тогда возмущалась, что брат подарил Павлу огромный завод, будто игрушку. И он тоже обещал на обратном пути заехать к маме и тоже не успел, спеша к своим невероятно важным мужским делам. А мама, он знал, всегда молится за него перед сном: эта привычка появилась у нее, когда Павла забрали в армию. Она редко ходила в церковь и не знала правильных молитв, но он случайно услышал однажды ее тихую просьбу к неназванному адресату. Она примерно так и звучала: «И мальчику моему…»