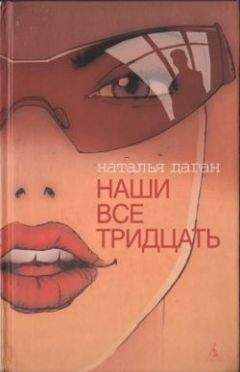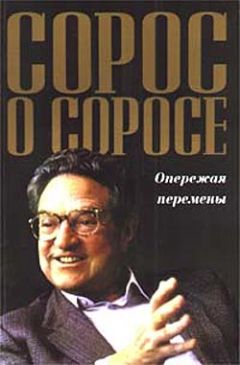Когда мы «выходим в люди», его уже никто не узнает. Красотка, напротив, вдруг просыпается и начинает изумленно таращиться по сторонам. Мы выступаем эдаким красивым семейным трио. Он что-то продолжает рассказывать, когда к нам подскакивает борзый фотограф с украинским акцентом и предлагает «сфоткатся». Мы дуэтом говорим «нет». Тогда фотограф начинает напирать на меня:
– Девушка, девушка, у вас такой красивый молодой муж, такой красивый от него ребенок, ну давайте зафиксируем вас на прогулке. Прекрасный кадр будет, поверьте, прекр-р-расный!
Тем временем я слышу, как моего «молодого мужа» разбирает смех, особенно после слова «молодой»: из-под козырька бейсболки доносится глумливое квохтанье. Фотограф, несмотря на то что находится на близком от него расстоянии, «молодого мужа» решительно не узнает и продолжает меня уговаривать, неожиданно перейдя уже на одесский акцент и «ты». Я наконец решаюсь:
– Мужчина, – говорю я ему, – это не мой муж и не мой ребенок. Поверьте, никакого смысла в этом снимке нету.
– Ну уж нет, – внезапно негромко, но четко возражает мой «молодой муж», – давайте сфоткаемся.
И, сняв бейсболку, он поднимает как будто к солнцу красивое сияющее лицо и, обняв меня за талию, придерживая левой рукой Красотку, становится в профессиональную стойку перед объективом:
– Я не ее муж, потому что мы еще не расписаны. Просто она сегодня не в настроении. Снимайте.
Фотограф между тем стоит столбом.
– Ты соображаешь, что ты делаешь?! – в ужасе шепчу я. – Здесь могут быть папарацци! Завтра же этот снимок будет на первых полосах желтой прессы. Да еще с ребенком! Ты представляешь, что тебе дома будет?
– Не лезь ко мне домой, – недобро одергивает он меня, ослепительно улыбаясь при этом, – поверь мне, я представляю это гораздо лучше, чем ты.
Вот они, звездные выкидоны, – не будь я знакома с ними, я бы, наверное, сейчас же убежала бы. Или упала бы в обморок. Фотограф внезапно отпотевает и начинает суетливо бегать вокруг нас, судорожно дергая затвор своего старенького «Зенита». Собирается народ, как в зверинце.
– Ой, смотрите, это же… – с оттенком истерики произносит какая-то женщина.
Тут срабатывает затвор, и фотограф нас наконец «фоткает». И сразу за ним следует шквал вспышек любительских «мыльниц». Опережая его всего на десятую долю секунды, я успеваю вскинуть обе ладони и закрыть ему лицо. Его рука с бейсболкой уже идет вверх, он уже пригнул голову. Вокруг поднимается какой-то нереальный ажиотаж, Красотка принимается рыдать… Мы еле-еле уносим ноги. «Дочурка» наша еще долго не может успокоиться, заливаясь слезами. Оставив ее в машине с мувистаром и не сказав ему ни слова, я возвращаюсь на площадку и бодро-злым шагом подхожу вплотную к фотографу.
– Ну что, – ядовито замечает он, – вы все-таки решили купить фотографию?
– Да, пожалуй, – нарочито небрежно отвечаю я, – вместе с негативом.
– Что так? – Он ехидно блестит глазками.
– Очень негативы люблю, – с сердцем отвечаю я, – собираю их в отдельную коробочку.
Подумав, он называет мне цену. Я ахаю, хватаюсь за сердце, и мы начинаем торговаться. В машину я возвращаюсь довольно скоро, с пленкой, вынутой при мне из «Зенита». Точно, вечер курьезов. Хлопнув дверью, молча завожусь и взглядываю на знаменитость:
– Ну и что это было?
Он сидит очень довольный.
– Ничего особенного. Мы сделали совместный снимок на пленере. Спонтанный, а значит, очень хороший.
Наверное, это месть за то, что пришла на свидание к нему не одна. Но с другой стороны, как я могла бросить Энджел в такой ситуации? Вдруг у нее там судьбоносный хахаль, который будет ей потом хорошим мужем?..
Представляю на снимке свое перекошенное недоумением и паникой лицо.
– Я просто хочу, чтобы у тебя была фотография со мной, – между тем продолжает он, – на память.
– В рамку поставить, – говорю я.
– Рамку я тебе подарю. Дизайнерскую. Ну это что-то новое. На память… При чем здесь память? Впрочем, мне-то что? Это он несвободен, а не я, и это у него «в случае чего» будут проблемы. Едучи в машине на второй красный свет подряд и не замечая этого, я молчу, а он пытается разговорить меня (может, разозлить?), расспрашивая о том, что это за дурацкая такая мать у Красотки, что она на кого попало свое дитя кинула.
– На кого попало – это, что ли, на меня? – спрашиваю.
– Ну, например, на меня, – возражает он, – а вдруг я мувистар-киднеппер?
Внезапно я неудержимо начинаю смеяться. Похоже, это истерика.
– О да… Очень похож!.. – Еще не до конца успокоившись, я добавляю: – Но мать Красотки не знает, что мы с тобой сегодня встречаемся. Она вообще про тебя не знает.
Как, впрочем, и никто не знает. Он фыркает:
– А что она еще не знает? Кто отец этой девочки?
– Нет, кто отец этой девочки, она как раз знает, – терпеливо отвечаю я. – И если тебе интересно, я могу рассказать тебе историю, благодаря которой эта прекрасная малышка катается сейчас с нами в машине.
Хмыкнув, он пожимает плечами: «Ну если больше рассказывать нечего…» Медленно-медленно я начинаю тормозить.
– Слушай, – говорю я ему, – ты мне надоел. Я тебя сейчас высажу.
И, остановившись, взглядываю на него с большим вниманием.
Но он уже сидит весь преображенный: сияет на меня фирменной, полубезумной улыбкой Джека Николсона, задирает бровки домиком и беззвучно хлопает в ладоши: «Просим-просим!» Выглядит при этом совершенно по-дурацки, об этом знает и меня этим чрезвычайно веселит… Внезапно я понимаю, что все, что было перед этим, – спектакль.
– Браво! – говорю я тогда и снова смеюсь. На этот раз смеюсь совсем по-другому.
– Бис!
Мы познакомились с Энджел, когда я в период тотальной безработицы в журналистике пошла трудиться в некую полутеневую фирму в качестве пиар-менеджера. Анжелкин стол был прямо напротив моего. Это была высокая красивая девка с бесконечными ногами, эффектная шатенка с синими глазами и слегка оттопыренным животом, который, впрочем, довольно быстро оказался шестимесячной беременностью.
Энджел тогда проживала в совместном жительстве с неким молодым человеком, от которого и была беременна. Почему она с ним проживала и почему она от него беременна, никто не знал и не понимал, включая саму Энджел. Но она на эту тему не думала. Это было вполне в ее духе: лишний раз не задумываться. Когда-то она жила совсем другою жизнью, с человеком по имени Данила, в полном счастье, любви и согласии. Четыре года.
Они расстались, на взгляд Энджел, довольно неожиданно. Просто однажды он сказал: «Я тебя люблю, но жить с тобой больше не могу».
На мой тогда вопрос, неужели Энджел ничего не предчувствовала, она ответила, что «да, предчувствовала, но о плохом ведь стараешься не думать?». И заодно поведала мне о своей эксклюзивной технологии отгоняния плохих мыслей. Я тогда подумала, что у этой девушки страусиные не только ноги.