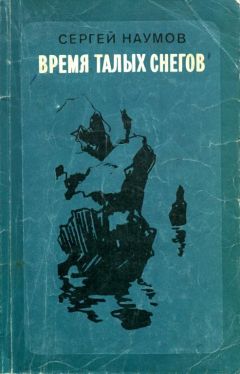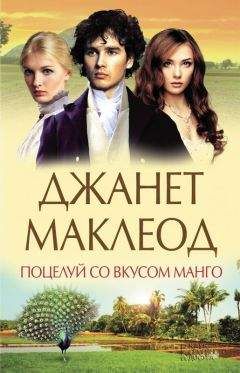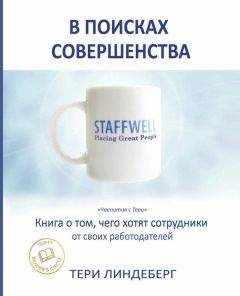Я набрала в кастрюлю воды, поставила на плиту и чиркнула спичкой. Спичка погасла. Вторая спичка резко полыхнула оранжевым и оставила длинный черный язык на блестящем белом боку кастрюли. Я взяла в руки пачку спагетти, надрезала край и приготовилась сыпать макароны в воду, не дожидаясь, пока та закипит.
Валерий отобрал у меня пачку. Повернул лицом к себе и произнес очень тихо:
— Так я не расслышал — как насчет Багам? И… кольца? — И тут же отпустил мою руку и бодреньким голосом закончил: — Собственно говоря, для меня все эти штампы и прочий официоз ничего не изменят! Но я тут на досуге подумал о тебе… Чего твоему паспорту, спрашивается, всю жизнь пустовать?
На этот раз голос не подвел и меня.
— Посмотрим, посмотрим… На ваше поведение… роман… и погоду на Багамах… А вдруг цунами?!
И тут он захохотал и рывком притянул меня к себе, забыв о предварительном магическом взгляде в правый глаз.
Теперь он писал.
Мятые, исчерканные рваной вязью неизвестных знаков листы неуправляемо размножались на столе. Время от времени они вспархивали с его края и, помедлив в свободном полете, изящно опускались на пол. Порой они залетали на полки книжного шкафа, порой уползали под кресло или обретали пристанище на подоконнике за цветочным горшком. А иные, улучив момент, норовили даже вырваться на волю — на балкон.
Я охотилась за ними. Я терпеливо выслеживала их и, выбрав подходящий момент, одним броском хватала сразу несколько, не дав им опомниться, складывала ровной стопкой и придавливала громадным черным дыроколом. А далее с ними происходило чудесное преображение: Валерий брал пачку в руки и, наскоро перетасовав, принимался бойко расшифровывать их, аккомпанируя себе на машинке. Поначалу ее клавиши стучали в ритме задумчивого вальса, с акцентом на первой доле: «КЛАЦ! Клац-клац… КЛАЦ! Клац-клац…» Затем, войдя в азарт, машинка переходила на безостановочную пулеметную очередь, а временами, призадумавшись на минуту, чтобы перевести дыхание, разражалась свободным имровизационным пассажем.
Похоже, что все философские вопросы, равно как и политические, а заодно и литературные проблемы, были наконец разрешены, и наша новая жизнь, моя и Валерия, вошла в предназначенное ей русло.
Из колеи выбивались только ночи. После некоторых из них меня начинало клонить в сон на втором уроке. А книги, мои покинутые книги! С каким укором выглядывали они теперь с нижней полки старенькой этажерки!
По словам же Валерия, эти ночи будили в нем вдохновение.
— Но почему ты повышаешь свою производительность труда за счет моей?! — возмущалась я. — И вообще, прибереги лучше силы для Багам!
— Для Багам — только тренировки и еще раз тренировки! Мы обязаны прибыть туда в прекрасной форме! — неумолимо объявлял он.
— Ты не позвонила вчера, — пожаловалась мама вечером. Голос по телефону звучал почти плачуще.
— Ну… не смогла. Извини!
— И когда теперь? — спросила она (будь это другой человек, можно было бы сказать — «капризно осведомилась»).
— Что — когда?
— Ты забыла?! Собирались же вчера на толчок!
— Ой-й…
Провалиться со стыда: точно, забыла напрочь! А мама собиралась, ждала, раздумывала, что и в каких рядах посмотреть… Звонить к Валерию она неизвестно почему стесняется.
— Мам, ну извини… Ну хочешь — сходим в следующее воскресенье? Или даже завтра… часа в три?
На толчок мы всегда ходим вдвоем с мамой. Папа утверждает, что от палаточных рядов у него кружится голова.
Мама же от этих походов словно молодеет.
Она равнодушно проходит мимо уютных полотняных комнаток и крошечных магазинчиков, увешанных роскошными вечерними платьями из велюра и шелка; не глядя минует висячие башни прозрачных шифоновых блузок и строгие колонны брючных костюмов, пар и троек.
Все это она может пошить и сама. (Однако, хочется заметить, не шьет!)
Зато ее неизменно притягивают турецкие вязаные свитерки и кофточки — на мой взгляд, довольно безвкусные, с какими-нибудь вышитыми цветами, стразами и обязательной отделкой люрексом, из тех, что растягиваются после первой же стирки. Что уж там видит в них мама с ее безупречным вкусом, когда замирает в оцепенении перед этими кустарными изделиями, для меня всегда оставалось тайной. Покупает она их, правда, редко — я подозреваю, что все-таки стесняется меня, поскольку без слов ощущает мое изумление.
Но даже и при мне мама не может устоять перед расшитыми блестками и цветными камешками шлепанцами, которые мы с папой именуем шехерезадниками. Эти шехерезадники мама приобретает в среднем раз в два года, причем каждая новая пара отличается от предыдущей примерно так же, как рисунки в тесте для первоклассников «Найди шесть различий».
Но сегодня мне было здесь как-то неуютно. Наверное, так чувствует себя человек, выигравший в лотерею кругосветный круиз и после возвращения ступивший с палубы белоснежного корабля на обшарпанные ступеньки родимого «Икаруса».
Толстая тетка суетливо натягивала бюстгальтер, пытаясь застегнуть его поверх черного свитера. Вокруг слышалось:
— Ну не могу я уступить, девушка! Я же реализатор, ре-а-ли-за-тор!
— Черт! Смотри, какая здесь яма! Чуть ногу не свернула! Не могли уже асфальт по-человечески положить…
— Кофе капуччино, хачапури, пицца! Салатики свеженькие…
— А сзади вообще хорошо. Сзади — ну отлично!
— Чурчхела! Желающие! Чурчхела, желающие! Чурчхела-желающие!
— Марина! Я тебя спрашиваю — не пестрый?!
Я очнулась. Мама с упреком смотрела на меня. Мы выбирали свитер для папы. Приближалось двадцать третье февраля — всегда самый главный праздник у нас дома, не считая Нового года. И в этом году мама так же старательно, как и всегда, готовилась к нему. Удивительно! А мне-то казалось, что жизнь в доме без меня остановилась.
— Ой, извини, задумалась… Нет, ничего, нормальный. Может, скучноват немного… Но в общем-то элегантный.
Как ни странно, старая жизнь продолжалась повсюду! С искренним удивлением я замечала, что люди вокруг по-прежнему готовят пищу, сплетничают, делают маникюр и возмущаются несправедливостью начальства.
— Вся жизнь учителя — сплошной бег! — вздохнула Людасик. Мы расположились, как обычно, в углу у окна за моим личным столиком, отделенные ото всего мира поворотом ключа и тремя книжными стеллажами. — Или бежишь к восьми, на первый урок. Или к полвосьмому, на дежурство. На уроке то же самое: то опросить не успеешь, то объяснить, то в журнал записать. А моя теть-Света, тоже учительница, всю жизнь завтракала стоя, боялась опоздать. Представляете? Кроме, может, воскресений… Так и отпечаталось в памяти — я собираюсь в первый класс, бабушка печет оладушки для любимой внучки, а теть-Света, одетая уже, стоя глотает чай. И все привыкли, вроде так и надо… Она разведенная была, жили тяжело, нуждались, конечно. Часов всегда набирала под завязку, а тетради, понятное дело, проверять не успевала. Ей Надька, дочка, с третьего класса помогала. А мне не доверяли — маленькая! А я выросла и в отместку — туда же, в педагогический…