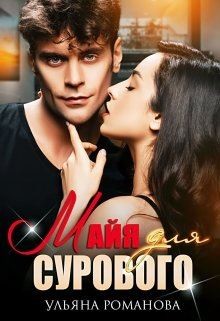как еще час назад, когда в машине ее вез. Она тут же в моей руке утопает, но потом сжимается резко. Маша как-то слишком быстро руку свою убирает, чуть ли капельницу с мясом от этого не вырывая. К себе тянет. Дрожать начинает. Сильно.
Черт. Не думал, что она уже не спит. И как давно мы оба молчим в этой палате?
– Зачем вы забрали меня оттуда?
Голос тихий и хриплый. Простуженный.
– Я не мог оставить тебя там.
Вижу, как из опущенных ресниц девочки слеза прозрачная стекает к виску. А затем еще одна и еще.
Губы поджимаю, когда ее плечи хрупкие начинают дрожать от всхлипов частых и глубоких. Этого еще не хватало. Нельзя ей волноваться, только не сейчас.
– Маш, спокойно. Ты в больнице. В безопасности. Все прошло уже.
– Не прошло. Не прошло…
Похоже, эти слезы были только началом. Малышка начинает как-то тяжело дышать, и я вижу, что она из последних сил сдерживается, чтобы в голос не разрыдаться. Только потому, что я тут. Рядом с ней стою. Она гордая, видите ли. Не станет слабость свою показывать при мне.
Всхлипывает только тихо все чаще, отвернувшись от меня к стене. Все ее тело как-то слишком сильно содрогается, и я понимаю, что тут, мать ее, точно что-то не так.
– Ты дрожишь, болит что-то, врача позвать?
– Нет. Я не от боли. Я просто…
– Что просто?
Замолкает, а я сжимаю зубы. Эта девочка меня скоро с ума сведет. Из нее приходится все буквально по слову клешнями вытаскивать, но я лишь жду терпеливо. У нее шок, она и так едва говорит.
Тихий, едва ли слышный ответ доноситься от Маши спустя мгновение, но блядь, лучше я бы вообще этого не слышал.
– Я боюсь.
– Чего?
– Вас. Вас боюсь.
Это заявление пронизывает меня словно кочергой раскаленной. Насквозь. Под дых прямо бьет. Без подготовки. Дожили, блядь.
Так, нам надо успокоиться, и мне в особенности.
– Чего именно ты боишься, девочка? Маш, повернись, посмотри на меня.
Спустя пару секунд малышка поворачивается, и на меня смотрит. Ресницами своими пушистыми хлопает. Всего лишь на миг, а потом быстро отводит взгляд, но мне этого хватает, чтобы увидеть, что в ее глазах в этот момент такая боль вселенская плескается, от которого у меня, взрослого мужика, по спине муравьи ползти начинают.
Она пальцами своими бледными и дрожащими одеяло это мнет, продолжая всхлипывать, а я хочу под землю провалиться. Не видел я еще Машу такой. Даже тогда, когда обидеть ее посмел, не была она настолько…раздавленной и сломанной. Моими стараниями.
– Ваше тату на шее. Оно пугает меня. И всегда пугало. А еще я боюсь…боюсь, что теперь вы точно продадите меня, потому что я не захотела в пансионат ваш тот ехать. А я и сейчас не хочу. Я не изменюсь. Я такая уже…оборванка, беспризорница ничейная. Вот только я не хочу быть бесправным зверьком для вас больше! Лучше убейте сразу!
Ее голос срывается от рыданий. Девочка руками лицо закрывает, а мне хочется головой биться от заявления этого.
– Ни в какой пансионат ты не поедешь, если уж так сильно этого не хочешь. Ты приняла решение, и посмотри, к чему оно привело тебя.
Девочка лишь сильнее рыдать начинает. Проклятье. Что там говорила докторша, не волновать? Что-то не получается.
– Все будет хорошо с тобой. Верь мне. Тебе нечего бояться.
Хочу снова за руку ее взять, успокоить, но она лишь вырывает ее, задевая тем самым иглу в руке от капельницы. Шипит зверем раненым, слезы глотая. Больно сделал. Снова.
– Нет, пожалуйста! Я не хочу быть вашей должницей больше, вещью не хочу быть бесправной, с которой все что угодно можно сделать. Я лучше сдохну. Я уже и так умерла. Тогда еще. Когда…
Запинается, а я материю себя как только можно. Знаю я, о чем она. Мы оба знаем.
Слезы свои, наконец, вытирает, а потом выдает финальное и тихое, но целит оно мне прямо в голову.
– Всеволод Генрихович, пожалуйста, отвезите меня обратно в тот подвал. Я уже смирилась там. Правда.
Сглатываю, сжимая кулаки до хруста. От ее слов этих тихих и жутких у меня жжёт в груди где-то. До мяса просто сгорает.
Не должны молодые девушки говорить такое. Не должны о смерти думать как о единственном своем спасении. Что вообще у нее в голове сейчас твориться, подумать страшно. Проклятье!
– Ложись, девочка. Тебе надо поспать.
Укрываю ее одеялом, видя, что ни хрена она не успокоилась нормально, и на шаг отступаю. Подальше. От нее. От той, которую трогать нельзя было, а я посмел. Обидел ее. Набросился тогда как зверь. Напугал. Больно сделал. Ведь это первый раз был ее, надо было поосторожнее, и как минимум, без ремня.
Боится она меня теперь, а еще ненавидит. Алым диким пламенем. И не смыть этого уже, не замазать ничем этот грех. Сам не замечаю, как вылетаю из ее палаты, проводя рукой по лицу.
Это слишком далеко зашло, и дальше так не может продолжаться, иначе один из нас точно не выживет. Я обидел эту девочку так сильно, что не вовек теперь себя простить не смогу.
Она и правда лучше умрет, но мне не подчинится. Слишком вольная, свободолюбивая, дикая. Как не приручай зверька дикого, как не корми, он все равно диким останется, и всегда будет смотреть в сторону свободы. Однако это уже мой зверек, и я знаю лишь один шанс его приручить.
* * *
Кажется, я еще никогда в жизни так долго и постоянно не спала. У меня болело все тело, но в особенности лицо. По нему словно танком проехали, и малейшее движение причиняло адское жжение.
Я смогла встать с кровати только на следующие сутки, и сразу же к зеркалу побежала. Я знала, что тут урод с ножом нехило долбанул меня, однако даже не думала, что настолько сильно. Яркий сине-фиолетовый фингал только подтвердил мои опасения.
Я почти не помню, как меня достали с того подвала страшного и когда именно это произошло. Помню только, что это был Всеволод Генрихович, либо же мне просто приснилось, что он пришел за мной и вытащил из того ада. Наверное, я просто очень сильно хотела, чтобы это был именно он.
Все что я запоминаю – жар его тела и запах любимый. Кажется, он меня к себе прижимал, по голове гладил, либо же это снова разыгралась моя больная фантазия.
Я думаю о нем. Все еще и притом