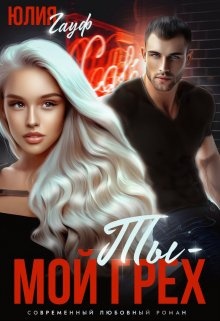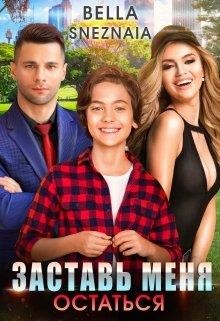и зубочисткой. Глаз на память выткну хоть, и не буду такой покорной курицей, которую несут чтобы отрубить тесаком голову.
Сжала в ладони зубочистку, и свесила ноги с кровати. Кровать при этом противно скрипнула, и убийца мой коротко качнул головой:
— Не стоит. Время потратишь, и больнее будет.
Даже, урод, не взглянул на меня. Вот такой я противник, не особо пугающий — жмущаяся на кровати тощая девка. Зато камеру установил.
Камеру.
Да хрен вам, а не моё снафф-видео!
Резко, не давая себе передумать, и не позволяя убийце предугадать мои шаги, метнулась к нему навстречу. К нему, а не к двери! И снесла эту камеру ударом ноги. В удар вложила все имеющиеся у меня злость и силу. Их много оказалось: и штатив, и камера отлетели к стене, царапая при этом пол, и с громким стуком упали.
А я побежала к двери в полной тишине. Вот только открыть её я не сумела. Шею обхватила чужая мужская ладонь, сдавила. Сильно: ни вдоха, ни выдоха не могу сделать. А он всё давит, стягивает мою кожу своей, грубой, рвёт её.
Странно, именно сейчас я больше не в ступоре. Ужас покорной жертвы схлынул. На его место пришла простая человеческая паника: я не могу дышать! Не могу! Такое было уже в Рио. Я плавала, ногу свело судорогой, и я пошла ко дну. Но спасатель успел, меня вытащили. Однако, я навсегда запомнила, каково это — страх перестать дышать.
Сейчас я боюсь, и отчего-то дико радуюсь, что снесла к чертям эту камеру! Хотят убивать, пусть хоть поднапрягутся, и пусть дадут сделать мне еще пару вдохов.
Мои мысли были услышаны. Хватка на шее ослабла, зрение вернулось. Воздух ворвался в горло, царапая его изнутри, обжигая. Воздух с привкусом крови и желчи.
В Рио спасатель успел. А сейчас? Сейчас спасателя не будет. И плевать. Драться я буду!
— Сука, — прошипел убийца, продолжая удерживать меня со спины. — Жаль, не было команды тебя поиметь.
Вспоминай, Алика! Вспоминай, что ты можешь сделать, и как ты можешь осложнить им своё убийство! Забавно, но я смирилась с тем, что умру. Надежда на спасение есть, она призрачная, и руководит мной сейчас не надежда, а злость. На папу, на Марата, на Игнатова. На саму себя я злюсь еще сильнее, и это стимулирует.
Отец давал мне пару уроков самообороны, когда был в хорошем настроении. И это его хорошее настроение я обожала. Оно означало поездки на матчи, на рыбалки, походы в кондитерские. И уроки, да. Правда, их было мало, но всё же хоть что-то.
Удар в пах? Он придает злости, и только очень сильный удар может обездвижить нападающего. Я такой силой не обладаю.
Взять в захват его большой палец, вывернуть руку? Это я могу, но не в такой позе.
Удар по его лицу своей головой? Это дезориентирует.
Соображай же, Алика! Счет на секунды, хотя казалось бы что прошли часы. Я глубоко вдохнула, качнулась и, преодолевая сопротивление руки этого чужака, врезала своим затылком по его подбородку.
— Тварь, — он развернул меня лицом к себе, снова схватил за шею, и приподнял за нее.
Воздуха, что я вдохнула, пока хватает, хоть мне и больно. И радостно — на его губах кровь. Однако, ублюдку достаточно одной руки, чтобы задушить меня, что он и делает.
Он вытащил телефон, навел на меня, и… конец? Вот так задушит, снимая меня на камеру? Да у этого убийцы даже лицо такое… хоть и разозленное моим самоуправством, но скучающее. Рутина.
— Открой глаза, и скажи «прощай», — ровно произнес он.
Я открыла глаза. В голове давление такое, что того и гляди взорвется от удушья. Мышцы слабые, и, клянусь, если бы хоть немного влаги было в моем организме, то я бы обмочилась.
На меня наведена камера. Я прижата к двери, приподнята за шею одной рукой этого мужчины. Я задыхаюсь, и жизни осталось на минуту, не более. А в моем сжатом кулаке по-прежнему зубочистка: мокрая от вспотевшей, взопревшей кожи. Сил мало, но я снова сложила все имеющиеся. Ухватилась за эту жалкую деревяшку, чувствуя, что еще чуть-чуть, и сознание меня покинет, и резко ударила в мужское лицо. Не особо целилась, но…
— М-м-м-м-м… су-у-у-ка…
Я повалилась на пол. Резко, больно. Снова дышу, чем пользуюсь. Тело не слушается, свой предел я переступила, даже встать не могу. Мой убийца на ногах, прижимает руку к глазу. Повредила? Выколола?
— Ну всё, тварь. Будет быстро, некрасиво и больно. Сама напросилась, — он пошел на меня.
И в это время я услышала шум и ругань за дверью.
Я сделала всё, что смогла.
А затем увидела, как к моему лицу несется подошва берцы, шея хрустнула, лицо обожгло. Сознание померкло.
— Какого хуя ты творишь? — услышала, а затем почувствовала новую боль — в спине, в голове.
И ворвавшийся в сознание голос. Меня спасут?
Нет. Снова нет.
Впрочем, уже плевать…
Надо же.
Это — первая моя мысль.
Я очнулась. Надо же!
Во рту сухо. Из влаги там только кровь. И больно. Нет, не так. БОЛЬНО.
Болит всё тело. Я валяюсь на полу сломанной куклой, вижу перед собой мужские ноги, чуть дальше валяются бутылки с водой. В глаза по-прежнему бьёт противный желтый, дешевый свет.
Но я жива. Вот только радости по этому поводу нет, как и грусти. Есть только боль, но… не в животе? Ребенок пока со мной, или я потеряла его, и не заметила? Такое бывает на не слишком больших сроках. Немного крови, никакой боли. Тихий выкидыш.
Впрочем, какая уже разница…
Я со стоном перевернулась на бок, а затем поползла к бутылкам с водой. Ожидала, что остановят, пнут, добьют. Но на меня не обратили никакого внимания. Ползет себе, и ползет. Далеко-то не уползет, так?
— Ты должен был…
— Что? Разрешения спросить как обычно?
— ДА! Да, блядь! Разрешения ты должен был спросить, щенок!
— Отец, не лезь…
— Ты хоть знаешь, какие последствия у твоего самоуправства будут? Для тебя, для меня. Для всего, что я создал?
Дмитрий Константинович. Своего сына отчитывает. Боже, значит, это спасение? Я не умру, мой малыш не умрет?
Открутила крышку, и начала жадно пить воду. Она тоже с привкусом крови. Кровь стекает по моему лицу, стягивает его. Её много. Но я жива. Я всё еще жива.