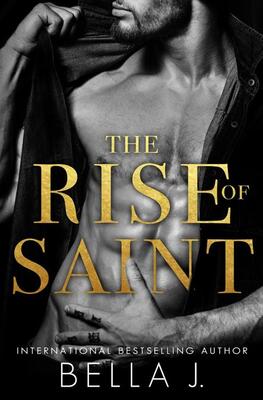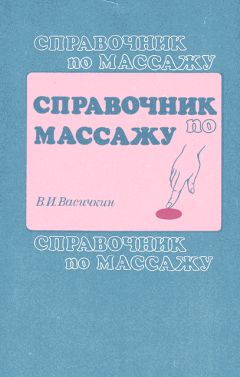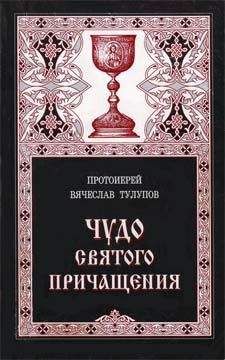определенная грань: я был первенцем Руссо, а она — женщиной, не носящей ту же фамилию. Эту черту я не позволял ей переступать. Никогда.
Она снова села за барную стойку.
— Думаю, ты должен ей сказать.
Разочарованный, я потер затылок.
— Что именно?
— Настоящую причину, по которой тебе нужны ее акции.
— Зачем мне это делать? — Насмехался я.
— Может, если бы она знала правду, то не разрывалась бы между борьбой с тобой и принятием тебя.
Я провел пальцем по своей челюсти, почесывая пятичасовую тень.
— Она может бороться со мной сколько угодно. Но она не победит.
— Я не беспокоюсь о ее победе, Марчелло.
— Тогда, о чем именно ты беспокоишься? — Я огрызнулся, но она даже не вздрогнула.
— О том, что Мила будет съедена заживо, потому что ты отправил ее в логово льва безоружной.
Вокруг нас воцарилась тревожная тишина, словно последние секунды перед тем, как сработает таймер смертельной бомбы. Тяжесть на моих плечах удвоилась, когда слова Елены прозвучали в моей голове как сигнал пожарной тревоги. Но я не мог позволить этому повлиять на меня. Слишком многое было поставлено на карту, и я должен был не упустить из виду то, что имело значение, а именно — выполнить то, что я задумал в тот день, когда вышел из дома отца.
Уничтожить его.
Я провел ладонью по лицу и выпрямился с новой решимостью.
— У меня нет на это времени. Что бы ни происходило в твоей голове, или что бы там ни показывали тебе твои карты, позволь напомнить тебе, что Мила — лишь средство достижения цели.
— Пока что.
— Не надо, — предупредил я, но Елена продолжала смотреть на меня горящими глазами, как будто в них заключалась вся мудрость мира.
— В прошлом велись великие войны, которые начинались из-за женщины. В конце концов, всегда оставался один вопрос. — Она положила руки на колени, сплетя пальцы. — Стоила ли она того?
Я втянул воздух сквозь зубы: ее послание прозвучало громко и четко. Но я не желал, чтобы это меня огорчало, заставляло терять из виду то, чего я хотел добиться с того самого дня, как вышел из отцовского особняка.
— Я дал клятву, обещание, ради которого я начал эту войну. И, Бог мне свидетель, я выиграю эту войну, и она будет стоить каждой капли крови, пролитой на моих руках. — А Мила, — я наклонил голову, со стальным выражением лица, — она лишь оружие, которым я перережу горло своему врагу.
Ярость жгла мне язык и овладевала моими костями, когда я повернулся и зашагал прочь. Если я не уйду сейчас, тетя Елена получит по заслугам, чего она не заслуживала, хотя и нажала на все неправильные кнопки в течение десяти минут. Но я знал ее, я знал ее сердце. Она участвовала в этом по тем же причинам, что и я, но казалось, что Мила задевает ее за живое. В какой-то степени я задавался вопросом, не видит ли она дочь, которой у нее никогда не было, когда смотрит на Милу. Я мог бы посочувствовать ей в этом. Ни одна женщина не должна нести бремя невозможности реализовать свой биологический, данный Богом дар — произвести на свет ребенка.
Это немного успокаивало меня, когда я пытался размышлять об источнике мотивов Елены.
Мои шаги гулко отдавались в коридоре. Мысль о том, что Мила ждет меня, связанная и все еще страдающая, приводила меня в восторг. И в то же время я не мог остановить угрызения совести, которые пытались пробиться в мою грудь. Я потерял себя с ней. Потерял контроль над собой и думал только о своих развратных желаниях, не обращая внимания на то, что она не похожа ни на одну из других женщин, с которыми я был. На самом деле, мне это нравилось. Мне нравилась мысль о том, что она невинна, не испорчена, что ее можно извратить и испортить.
Войдя в свою комнату, я увидел ее, связанную и страдающую, именно такой, какой я ее оставил: ноги раздвинуты, платье задрано на талии. Ее голова дернулась, и она бросила на меня полувопросительный взгляд через плечо.
— Ты пришел, чтобы еще помучить меня?
Я усмехнулся.
— Значит, ты признаешь, что то, что я не трахаю тебя, это пытка?
— Я бы сказала "иди нахуй", но я не в настроении иронизировать.
Я подошел ближе, следы на ее коже припухли и покраснели по всей заднице. В груди заклокотали угрызения совести — непрошеное чувство, заставившее меня пожалеть, что я не захватил с собой бутылку бурбона.
Я не мог смотреть на следы на теле женщины, оставленные моей рукой или плетью, и испытывать угрызения совести. Это нервировало. Сожаления я не испытывал никогда, и на то была веская причина. Раскаяние… это всего лишь шип, растущий из корня слабости, который, начав расти, уже не остановится, пока не вонзится в кожу тысячей шипов. Тем не менее в груди у меня было тяжело от беспокойства, и я, схватив влажное полотенце с алоэ вера, сел перед ней и потянулся к ее лицу.
Она отпрянула.
— Что ты делаешь?
— Лежи спокойно.
На меня смотрели настороженные глаза, налитые кровью и красные от слез, на щеках, — пятна от слез. Поэтическая красота, вот что это было, слезы сильной женщины. Даже после всего случившегося ее глаза не утратили своего сияния. Цвет ее радужки был таким же ярким, как первые весенние листья, и таким же сильным, как экзотическая красота Амазонки. Мне казалось, что ничто на свете не способно испортить ее, заставить потерять блеск. Даже я.
Она все это время наблюдала за мной, пока я вытирал с ее щеки липкие следы своего освобождения. Чтобы доказать, что я больной ублюдок, мой член затвердел от одной мысли о том, что моя сперма попала ей на лицо, но в груди все равно не утихала боль. Я ненавидел это и предпочитал темноту, когда ничего не чувствуешь.
Я промокнул полотенцем ее рот, губы слегка приоткрылись. Только тогда я увидел крошечную капельку засохшей крови в уголке ее рта и застыл, почувствовав, как по позвоночнику пробежал холодок.
Выключи это.
Не обращай внимания.
Не надо. Чувствовать. Ничего.
Не говоря ни слова, я встал, чтобы обработать обожженную кожу на ее заднице и втереть приличное количество мази в ушибленную плоть. Она вздрогнула, и ее тело напряглось, цепи жалобно звякнули вокруг лодыжек. Наверное, самым правильным было бы развязать ее, но я не мог заставить себя сделать это. Мне нравилось видеть ее такой, кровь на губе