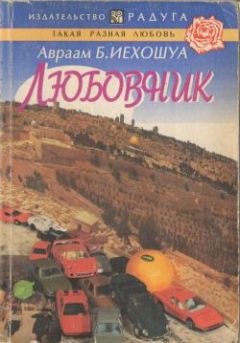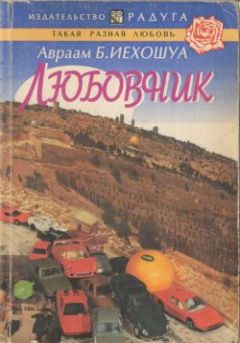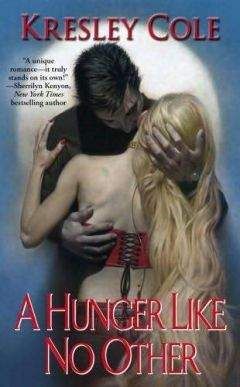– Где ты был, как дела?
– Все в порядке…
Черт возьми, и что это я так волнуюсь? Я сажусь в свою машину и даю газ.
Записался на медицинский факультет в Тель-Авиве, но провалился, записался на медицинский в Хайфе – и там его не приняли. Попытался в Иерусалиме – то же самое, пошел в Технион, но там не подошла средняя оценка в аттестате, написал в Бар-Илан и получил отрицательный ответ. Он был готов уже добраться даже до Беэр-Шевы, но опоздал записаться. Все время мы только и занимались им и его учебой. Весь дом вертелся вокруг него. Отец не спал по ночам от волнения. Приходили люди и давали советы: запишись сюда, напиши туда. Этот знает того, а тот знаком с другим. Начали нажимать на связи. Даже написали письмо в Бюро консультаций, послали старого шейха в приемную комиссию. Отец пошел даже в органы безопасности и сказал: «Уже двадцать пять лет я доношу на кого следует, а когда мой сын хочет учиться медицине, перед ним закрывают все двери». И они правда пытались помочь. Сказали, что обеспечили ему место на факультете арабского языка и литературы, но Аднан уперся – не хочет быть учителем, все идут в учителя. Устроили ему место по изучению Танаха, он сказал: «Что я, ненормальный?» Устроили ивритскую литературу, слышим в ответ: «Вы что, хотите, чтобы я умер от скуки?» Ужасно упрямый и гордый. Только медицина, или электроника, или что-то в этом роде. Встает по утрам и весь день ничего не делает. Отец не хотел, чтобы он уставал от работы, пусть занимается и готовится к вступительным экзаменам. Выделили ему самую хорошую комнату в доме и следили за тем, чтобы никто не шумел. Купили книги и тетради, не жалели ничего. Но он все время был раздражен, целыми днями сидел, закрывшись в комнате, и почти ничего не ел. Отчаялся заранее. Ночью перед экзаменом отец сидел у его двери и молился. Утром Аднан вышел из комнаты желтый как лимон, весь дрожит. Одет в новый, сшитый на заказ костюм, на шее маленький галстук красного цвета, сохранившийся у отца еще со времен турок, а на ногах – старые, грязные ботинки. Ничего не ест, только накапал себе валерьянки. Едет в один из университетов, чтобы провалиться, возвращается вечером совершенно без сил, просто на ногах не стоит, ничего нельзя понять из его рассказа, потому что даже сил говорить у него нет. Спит два-три дня, а потом начинает бродить по деревне в этом же костюме, но уже без галстука, сидит в кафе вместе с шабабой[24] и ждет развозящую почту машину, чтобы получить сообщение о результатах экзамена. А тем временем все больше и больше разгорается в нем ненависть. Он ненавидит всех, а особенно евреев. Его наверняка заваливают специально. Однажды вечером, за ужином, после того как он получил очередной отрицательный ответ, он завел свои обычные проклятия, никак не унимается. Все сидят, едят и слушают, как он ругает всех и вся. А я сказал тихонько, потому что мне надоело его слушать: «Может, это ты недостаточно способный, а сионистское движение тут не виновато». Я еще не успел закончить фразу, как папа со всей силы залепил мне пощечину, впал в такую ярость, что чуть не разорвал меня на части. А Аднан выскочил из-за стола, перевернув все тарелки. Я убежал, и он убежал, а папа кричит и причитает. Целую неделю я спал у Хамида, боялся, что Аднан убьет меня, уже тогда я чувствовал, что он опасен.
В конце концов, после того как мы, наверно, месяц не разговаривали, папа заставил меня помириться с ним. Я пошел и попросил прощения, ведь я младший. Поцеловал его тощую руку, а он положил свою руку мне на плечо, будто я собака, и сказал только: «Эх ты, Бялик». И криво усмехнулся.
Ненормальный…
Но когда в университетах начались занятия, а он никуда не попал, у меня тоже стало болеть за него сердце. Фаиз прислал бумаги из Англии, чтобы попытаться записать его там, но у Аднана не было больше сил. Наверно, он и сам стал подумывать, что, может быть, он действительно неспособен к учению. Может быть, решил, что у него талант к чему-нибудь другому.
Теперь, когда я выхожу утром, чтобы поехать на работу в гараж, я иногда встречаю его в переулке около дома. Одежда помята, ужасно худой, возвращается из своих ночных путешествий в Акко или другие места. Откуда мне знать? Нашел себе новых друзей. Мы останавливаемся, разговариваем. Я в своей рабочей одежде, а он все в том же своем костюме и в белой рубашке, воротничок которой уже почернел. Я стал относиться к нему немного мягче. Мне и в голову не приходило, что он собирается покинуть нас, что по ночам изучает дороги, тропинки и проломы в пограничном ограждении. Через некоторое время он исчез. Говорили, что его видели в Бейруте. И хотя нам было жаль его, а папа очень беспокоился за него, мы думали, что, может быть, так лучше, что он отдохнет там от евреев, которые так раздражают его.
Мы и не представляли себе, что он вдруг захочет вернуться.
Это искусство. Вы не цените его. Жить так среди нас, словно с двойным дном, жить в двух мирах, в этом и одновременно в противоположном ему. И когда вы в канун субботы разговариваете, сидя в своих удобных креслах, этой темы вам не избежать. Вы говорите об отборных группах, об одиночках-самоубийцах, об отчаявшихся фанатиках, а мне хочется кричать и смеяться (но я ничего не говорю, только раздраженно отправляю в рот очередную горсть арахиса). О чем вы говорите? Сегодня он рабочий в моем гараже, покорный и терпеливый, улыбающийся и преданный, а завтра – жестокий зверь. И это тот же самый человек, или его брат, или его племянник, то же воспитание, та же деревня, те же родители.
Вот, например, началось это страшное нападение террористов в университете, и я наблюдаю внимательно за своими рабочими – есть у меня тридцать арабов-рабочих и достаточно времени, чтобы наблюдать за ними, потому что машинами я уже не занимаюсь, а только людьми. Трогает ли их это? В курсе ли они вообще, что происходит?
В курсе. Узнали очень быстро. У меня есть бухгалтер, «еке», Эрлих, который ненавидит, когда во время работы включают музыку. Это кажется ему варварским обычаем, а арабская музыка раздражает его во сто крат больше. Он приходит на работу и затыкает уши ватой, потому что иногда в гараже надрываются десятка два приемников, передавая арабскую музыку. И вот, когда началось это дело, он с лихорадочной поспешностью вытащил из своей сумки маленький транзистор и, дрожа от раздражения, процедил: «Пусть бы они заткнули свою музыку, эти убийцы». Не прошло и нескольких минут, как арабская музыка наглухо умолкла. Они понимают, где предел. Снова включают «Голос Израиля» или «Волны Цахала». «Все-таки они с нами», – говоришь ты себе, но потом начинаешь замечать, как что-то в интонации дикторов и комментаторов раздражает их, они выключают приемники, остаются без новостей, работают в тишине, как-то даже придвинулись поближе друг к другу, не торопятся вывести машины для обкатки на дорогах. Подростки напряжены, смех прекратился, а кто-то там, в дальнем углу, тихо включает маленький транзистор, чтобы поймать какую-нибудь зарубежную арабскую станцию, к нему присоединяются несколько человек, слушают новости, и легкая улыбка скользит по их лицам.