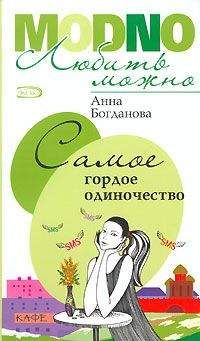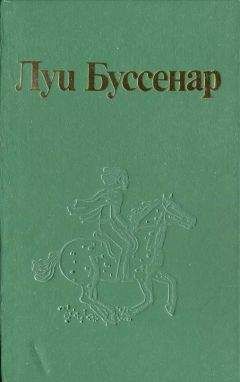– Да. Я слушаю, я вас очень внимательно слушаю. – И он затаил дыхание, ожидая, что я сейчас скажу: «Я согласна стать вашей женой. Я люблю вас. Я вас всю жизнь ждала! Давайте немедленно встретимся». Не сомневаюсь, что он ждал от меня именно этих слов.
– Идите вы к черту! – крикнула я и, бросив трубку, кинулась в ванную смывать шампунь. «Опять, наверное, погорячилась. Но что он не уймется никак?! Лучше бы занялся писаниной и роман пораньше сдал, а то Любочка в последнее время сама не своя, говорит, что ей не с кем работать – никто ничего делать не хочет. Ей даже редактировать нечего! Нет текстов! А Мнушкин всерьез озаботился личной жизнью! Нет, я ему все правильно сказала!» – так думала я, высушивая волосы феном.
«Надеть шапку или нет? На улице вроде бы солнце! Не буду надевать эту противную шапку! Однако не май месяц. Пожалуй, лучше надеть, да и голову все-таки вымыла... Марток – надевай сто порток! Пар костей не ломит! Надену!» – решила я и положила шапку на видное место.
Время шло и шло, нет, оно летело, как камень, брошенный вниз с высокой отвесной скалы в воду, оно мечтало покончить с этим Международным женским днем и, стремительно приблизившись к вечеру, утонуть в ночи.
«Теперь я понимаю, почему Петрыжкина не расчесала волосы в день выборов Мисс Бесконечности после многолетней завивки – она тоже, наверное, если ее расчесать, похожа на барана – худого, иссушенного солнцем тощего барана, которого я однажды видела на море. Там, на юге, что бараны, что коровы – все какие-то иссушенные. Наверное, от сильной жары у них совершенно нет аппетита. Я сама в жару ем очень мало. Я все думаю о какой-то ерунде. При чем тут бараны? Какие могут быть бараны, когда мне давно следовало бы выйти из дома! Я снова опаздываю!» Я рассердилась, рассердилась на себя, на истощенных баранов с юга, на Мнушкина, вообще, на Восьмое марта и, быстро одевшись, вылетела из дома и увидела одинокую, брошенную люльку, что висела над первым этажом второго подъезда – маляры тоже отмечали Международный женский день.
На улице я пришла в еще большую ярость: повсюду, куда ни глянь, влюбленные парочки – у каждой женщины цветы в руках и улыбка до ушей. У некоторых, конечно, букеты неказистые, уродливые даже, будто их кто-то уже пытался засушить на память, но у меня и такого не было.
Только подойдя к метро, я почувствовала, вернее, ничего не почувствовала у себя на голове – я все-таки забыла надеть шапку – я торопилась, я снова опаздывала и забыла надеть шапку.
В метро все представительницы слабого пола, которые наверняка уже и забыли, что конкретно они сегодня праздновали (а именно освобождение от социального гнета и получение равных прав с мужчинами. «Почему же их спутники без цветов? Где ж равноправие?!» – Не знаю, с чем это связано, может, бессонная ночь в бигуди на меня так подействовала, но с самого утра в голову лезут какие-то глупые мысли!), тоже были с цветами: кто-то нес торжественно, сжимая стебли изо всех сил в кулаке, словно боясь уронить и не дай бог потерять (!), так, что еще не раскрывшиеся и уже распустившиеся бутоны упирались им в самый подбородок; кто-то, напротив, держал букет небрежно, цветками вниз, помахивая им время от времени, показывая всем своим видом, что мне-то де не только на Восьмое марта цветы дарят, у меня уж дома и ваз не хватает, чтобы поставить очередной веник!
Наконец, поднявшись из метро и миновав площадь, я вошла в кафе. Народу было полным-полно, многие с детьми и все с цветами. Вдалеке я увидела Икки с бухгалтером и направилась к их столику.
– Как всегда! Машка! Ты, как всегда, опаздываешь! – смеясь над чем-то, что было сказано до моего прихода, выкрикнула Пулька.
Батюшки! Все! Все, кроме меня, пришли с кем-то! Икки, как уже было сказано выше, с Сергеем Юдиным (который снова был одет в васильковый кримпленовый костюм, из чего я сделала вывод, что наряд этот предназначен исключительно для торжественных случаев. Страшно представить, в чем он ходит каждый день!). Пулька сидела рядом с поразительно красивым молодым человеком в прямом смысле этого слова – ему не дать и двадцати лет; от него веяло свежестью, словно в душную комнату ворвался весенний шаловливый ветерок, перелистал пожелтевшие страницы развернутых на столе старых книг; он был похож на прохладное утро перед знойным полднем, на брызги колодезной воды, непонятно откуда появившейся посреди пустыни, на спокойное, слегка волнуемое дневным бризом море, на которое невозможно устать смотреть. Анжелка с двойней под сердцем. Одна я была одна (прошу прощение за тавтологию!).
– Знакомьтесь, это Алик, мой практикант, а это наша вечно опаздывающая Маша, писатель, – проговорила Пулька, заметив, что я задержала взгляд на ее практиканте.
– Как бы, здрассе, мне, как бы, очень приятно, как бы, – промямлил Алик, и я не поняла – ему действительно приятно со мной познакомиться или только как бы? Лучше б он вообще рот не открывал. Все впечатление испортил.
– Маш, так я не поняла, твоя кузина придет или нет?
– Она сказала, придет, если будет время.
– Держись, Икки! Адочка задумала какую-то сногсшибательную форму! – усмехнулась Пульхерия.
– Машка, закажи себе что-нибудь! – настаивала Икки.
– Мадмуазель, рекомендую пельмени! Очень вкусненькие тут у них пельмешки! Очень, очень! – прихрюкивая, прицвыркивая, причавкивая, посоветовал мне Иккин кавалер, но я заказала себе фруктовый салат и мартини.
– Да! Сержик уже третью тарелку уминает! – восторженно сообщила Икки.
– Сколько ж вы тут сидите, если он третью тарелку уминает? – удивилась я.
– Двадцать минут. Сержик любит поесть!
– Да, мадмуазель, и причем ем я, как работаю, очень быстро, – добавил Сержик и хотел было вылизать тарелку, но, оглядевшись по сторонам, поставил ее на стол. Лицо Алика озарила едва уловимая улыбка.
– Смотрите, Ада с каким-то мужиком идет! – воскликнула Пулька, и мы все как по команде посмотрели на дверь.
Поразительно! Первый раз вижу кузину не в одежде собственного изготовления, а в фирменных джинсах и очень дорогой коротенькой дубленке. За ней степенно вышагивал мужчина лет сорока пяти, с очень солидной, значительной, я бы даже сказала, внешностью.
– Здравствуйте! Я все-таки нашла время и пришла, – важно сказала Адочка, что на нее было совсем не похоже – она никогда не разговаривала так важно, но мгновенно вся та заносчивость, которую она копила и несла в себе по дороге в «Обжорку», слетела в одну секунду, она вцепилась в мою шею своими сильными, длинными, как щупальца паука-кругопряда, пальцами и по обыкновению, в знак несказанной радости, принялась душить меня, приговаривая: – Ах! Сестрица! Сестрица! Моя милая сестрица! Как мы с тобой давно не виделись! Если б ты знала, как я по тебе соскучилась!