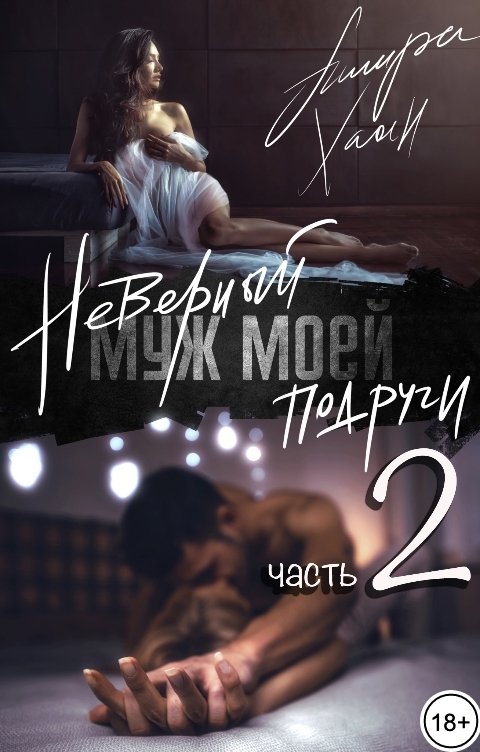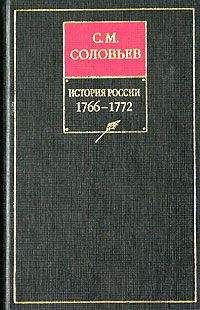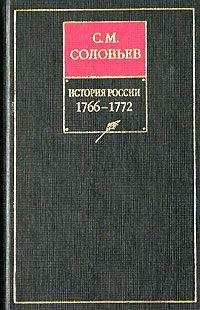сегодня делаешь?
— Работаю, — честно отвечаю я, закрывая глаза и позволяя холодным волнам страха пройти через меня и молясь, чтобы они не содрали с меня шкуру.
— А, точно… — убито отвечает она, и я слышу в ее голосе плывущие нотки опьянения. — А вечером? Давай встретимся и выпьем, Лан, а? Я не могу больше это все… одна.
Я закрываю динамик телефона и хрипло смеюсь, выталкивая из горла каркающие звуки в потолок машины. Чувствуя себя слишком безумной для этого мира.
Если я поеду бухать с Полиной — история повторится и Герман вернется?
Нет, в этот раз все иначе. В этот раз она знает, что у него есть любовница и разговоры будут вовсе не о том, как прекрасно быть замужем и ни о чем не беспокоиться.
Может быть, мне и надо поехать. Посмотреть на то, какую боль я причиняю человеку, который ничего плохого мне не сделал. Прочувствовать ее до конца — и продержаться еще двадцать восемь дней. И еще двадцать восемь. И еще тысячу, две, три тысячи дней без Германа.
А там, глядишь, отпустит.
— Давай в шесть рядом со мной, — говорю я Полине. — Я скину адрес.
И все-таки, когда я кладу трубку, одна маленькая и слишком умная часть меня шепчет на ухо — ты ведь согласилась не для того, чтобы удержаться. Ты согласилась, чтобы узнать, что происходит с Германом.
Как бы мне ни хотелось себя обмануть — перестать слышать эту часть не получается.
Сейчас. Чего ему не хватало?
Сейчас. Чего ему не хватало?
Когда-то давно я думала, что жизнь — очень простая штука.
Вот правильные поступки — а вот неправильные.
Просто делай то, что правильно и не делай того, что неправильно.
Вот и весь секрет счастья.
Первой проблемой стало определить конкретно: что правильно, а что неправильно.
Как ни странно, в одеяльце, в котором меня забирали из роддома, никто не подложил полное руководство по проживанию жизни. Так что достоверного источника у меня не было.
Приходилось верить людям на слово.
Но чем старше я становилась, тем чаще возникал вопрос — а почему я верю именно этим людям? И откуда они черпают свои знания?
Почему чьи-то чужие представления о том, как правильно, должны управлять моей жизнью? Моей?
С этого момента подчиняться чужим правилам я уже не могла, пока мне не объясняли их смысл. «Ну, просто так принято» и «Так надо» за объяснения не считались.
Как-то вдруг в тридцать лет оказалось, что я теперь совершенно не знаю, как правильно.
И, главное, никто не знает. Не у кого спросить.
Единственный ориентир, который я нашла для себя — не делать людям больно.
До сегодняшнего дня мне удавалось как-то держаться за призрачную надежду, что хоть это у меня получается.
Но когда Полина входит в бар в темных очках в девять вечера, сразу останавливая пробегающую мимо официантку, чтобы попросить бутылку вина, и снимает их, только сев за стол, я понимаю, что обманывала себя.
Ничерта у меня не получилось.
— Что, настолько хреново выгляжу? — она трет красные заплаканные глаза, не замечая, что размазывает остатки туши. — Да, Лан, теперь все мои сорок налицо. Раньше была женщиной без возраста, а теперь он мне отомстил.
Я сжимаю ледяными пальцами бокал со светлым пивом — пьянеть не хотелось, только поговорить. Но, кажется, чтобы догнать ее, надо уже заказывать водки. Она пьяна так глубоко, как бывает лишь на третий-четвертый день возлияний. Не запоя, нет. Просто безостановочного вливания в себя алкоголя.
Мешки под глазами, уставшая серая кожа, морщины на лбу — все исправимо, но всего этого не было еще месяц назад.
— С Маруськой все нормально? — мне нужно промочить горло элем, чтобы суметь выдавить из себя хотя бы этот вопрос.
Полина отмахивается:
— Ерунда. Даже зашивать не пришлось, больше визгу было.
— Хорошо… — тупо бормочу я, не зная, что еще сказать.
Несколько глотков пива меня спасают.
В любой другой ситуации я бы уже сбежала. Но сейчас нет ничего важнее, чем узнать, что происходит с Германом. Я готова выжимать из Полины каждое слово любыми неконвенциональными методами. Мне слишком нужно знать.
— Лан, я сама себя не узнаю… — Полина дожидается свою бутылку вина и смотрит на то, как официантка наполняет бокал, непроизвольно облизывая губы. — Представляешь, отняла у него телефон и сама отправила ей сообщение — расстаемся, мол.
— А она? — спрашиваю я, балансируя между равнодушным знанием о том, что «она», то есть я, промолчала, и имитацией интереса для правдоподобности.
— Не знаю. — Полина делает несколько жадных глотков и только потом обращает внимание на официантку, которая ждет, пока она что-нибудь закажет. — Я еще подумаю, — говорит она ей. А мне: — Герман забрал телефон обратно и молчит.
— В смысле — молчит? — удивляюсь я. — Он же, получается, теперь в курсе, что ты все знаешь?
— Да.
— И вы до сих пор не поговорили об этом? За месяц?
За двадцать восемь бесконечно долгих дней.
Полина улыбается. Горько, страшно, как-то слегка безумно. Рубиновое вино запеклось кровавыми корками у нее на губах, она трогает их кончиком языка и мотает головой.
— Мы не разговариваем, Лан. Мы теперь только орем. Тем вечером мы поругались в первый раз за десять лет. Страшно, чудовищно поругались, Лан. Отвратительно. Я на него орала, какой он мудак и испортил мне жизнь, он на меня орал…
Герман — орал?
Хочу сказать, что невозможно представить орущего Германа, но потом вспоминаю историю с парковкой и его угрозами тому мужику и прикусываю язык.
Возможно. Все возможно
Изменяющий Герман, орущий Герман…
Как много нового мы узнали в этом году о Германе.
— Ну он хоть покаялся? Просил прощения? — продолжаю пытать я.
— Нет, Лана! Нет! Ничего он не просил! Он просто орал на меня! — нервные пальцы Полины так стискивают тонкую ножку бокала, что я боюсь — она его сломает. — А