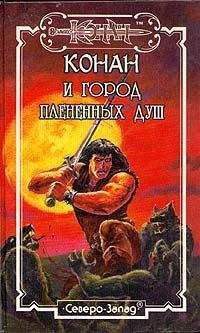— Знаешь, а я люблю тебя. До сих пор люблю, любила все эти годы. Вот, сказала…
Боже мой, как просто, подумал он. Как же все легко и просто, оказывается. Шесть лет — а ну и что, подумаешь, шесть лет каких-то. Отшвырнуть щелчком в сторону, как окурок, пусть себе тлеет оранжевый огонек, а ему остается только встать и задвинуть этот окурок под скамейку. Носком ботинка. Чтобы никто не увидел и не вспомнил. Он уже делал это однажды, шесть лет назад. На самом деле ничего сложного…
— Браво. Отличная импровизация, в твоем стиле. Только, извини, мне работать надо, — услышал он свой голос. Повернулся и ушел в ослепляющую пустоту гаража. Отошел подальше от света, льющегося прямо в глаза, опустился на импровизированную, из деревянных ящиков, скамейку.
— Эй, Лех, ты чего? — услышал голос напарника. Отозвался:
— Ты постой на моем участке, я сейчас, перекур только небольшой сделаю.
— Спину, что ли, заломило? — послышалось в ответ сочувственное.
«Если бы», — подумал он и только кивнул, безропотно соглашаясь.
Мыслей не было. Вернее, они были, но их было так много, так непереносимо много, они толпились, наскакивали одна на другую «Как стены, — подумал он, — как потолок тогда…»
Люблю. Любила. Все эти годы. И что ему остается? Что же он должен был сказать в ответ, что должен был сделать? Промелькнула в мыслях картинка: он и она. Разделенные расстоянием. Бегут навстречу друг другу — замедленная съемка. Последний кадр, еще более замедленный, превращающийся наконец в «стоп». «Стол», долго не уходящий с экрана, время совсем остановилось, стоит на месте и вот наконец пошло опять — титры. Титры, ползущие тугим и нескончаемым потоком по счастливым лицам в стоп-кадре, титры, раскрывающие тайные имена создателей всей этой любовной галиматьи. А может быть, и правда? Он и она, разделенные расстоянием, бегут… Нет, подумал он, усмехнувшись, ни черта ты здесь не разгонишься, когда всего два метра разделяют. Такие эпизоды на побережье снимать нужно, предварительно повыгоняв с пляжа всю ненужную массовку. И потом — это ж какая дыхалка нужна, чтобы бежать столько времени? Бежать, и при этом еще улыбаться?
«Бред, — пронеслось в голове, — чушь собачья». Он снова огляделся по сторонам — все тот же гараж, новая машина на подходе, те же лица, те же голоса. Ее больше нет… А может быть, не ушла еще, не исчезла? Может быть, стоит до сих пор там, за воротами? Стоит и ждет, когда же он, тупица, баран безмозглый, это же надо было быть таким дураком, таким кретином, да что же это он в самом деле, это же она, она, Машка… Мысли снова взметнулись в привычном бешеном вихре, и он понял только одно — нельзя, невозможно допустить, чтобы она снова исчезла. Иначе снова придет та, другая, ненастоящая, и все начнется сначала… Любила? Но ведь и он тоже — провались этот долбанный гараж под землю — любил. Любил, до сих пор любит, и что же может быть еще нужно, что же может быть еще важно на этой земле, если два человека любят друг друга?
Он выскочил из гаража, больно задев бедром багажник стоящей на выезде «шестерки», толкнув плечом возмущенно выругавшегося напарника.
— С ума, что ли, вы все посходили? Ты еще теперь, — услышал слова из-за спины, не придал значения, не разобрал смысла. Смотрел и видел дорогу, машины, троллейбусы. Как ни старался, как ни силился — только дорога, машины, троллейбусы. И больше ничего. Как будто и не было…
— Слышь, Санек, ты здесь не видел… Не видел здесь, случайно, девушку? — спросил он, уже заранее догадываясь, что тот сейчас ответит — нет, не видел никого, не было никакой девушки. Не было…
— Видел, видел, — подтвердил тот на удивление энергично, без всяких сомнений.
— Видел?
— Да что ты на меня так уставился, Прохоров? Видел, говорю же. Чокнутая какая-то, подбежала, схватила меня, чуть не задушила.
— Подбежала? Схватила? — переспросил он недоверчиво,
— Ну да, говорю же тебе. Белая такая, растрепанная, на башке не поймешь чего.
— А потом?
— Потом убежала.
— И все? Не сказала ничего?
— Сказала. Сказала — прости… Да я ж тебе говорю, чокнутая какая-то. У тебя спина-то как? Отлегло, не болит уже?
— Нет, не болит, — честно ответил Алексей. — Душа только побаливает, знаешь, Санек…
— Душа — это ничего, — бодро отозвался напарник, — душу твою мы в момент плясать заставим! Три бутылки пива — и запляшет, знаешь ведь, проверенное средство… После смены, а?
— После смены не получится, — произнес Алексей задумчиво, пытаясь расшифровать какую-то туманную мысль, промелькнувшую в сознании. — Мне после смены нужно…
— Да брось, куда тебе нужно? Алексей молчал.
— На свидание, что ли, собрался?
— А если на свидание?..
— Да брось, ты же у нас великий отшельник! — рассмеялся Санек. — Монах нестриженый. Скажешь тоже — на свидание… С мамой, что ли, свидание-то у тебя?
Алексей уже не слышал его. Он посмотрел на часы, с тоской подумав о том, что до конца смены осталось еще целых пять часов. Подумал: оказывается, и такое бывает, что время до конца смены может тянуться медленно. Давненько с ним такого не случалось. Давненько… «Шесть лет», — тут же шепнула память. Шепнула и уже не прекращала больше своего настойчивого шепота, потому что впервые за эти долгие шесть лет ей не сказали вежливо «заткнись». Поискал глазами чистую тряпку и медленно двинулся к мокрому темно-синему «мерседесу», поджидающему его вместе с его тряпкой. А память шептала: шесть лет…
…Тогда, шесть лет назад, он вошел в квартиру, не задумываясь о том, что нужно было бы поискать в кармане ключ. Вошел, потому что дверь была открыта для всех, кто пришел в этот день попрощаться с его отцом. А значит, и для него тоже. Кадры мелькали перед глазами: люди, лица. Он понятия не имел, что у них, оказывается, столько родственников. Зашел, увидел мать… Почувствовал, как внутри, расправляясь, поднимается стальной стержень, тот самый запасной стержень, который, наверное, имеется у каждого человека, спит где-то внутри, пока не настанет тяжелое время, время его пробуждения. Поднимается, сурово предлагая опереться и прося взамен лишь одного — чтобы каждая клеточка тела, каждый нерв — все превратилось в сталь, уподобившись ему. Чтобы не скучно было ему одному, стальному, среди груды мяса и костей, среди совсем уж неприличных и никчемных этих нервишек. И не остается больше ничего другого, кроме как согласиться на эту поддержку и превратиться взамен в комок стали. Вот, оказывается, как это бывает…
Он даже почти не помнил этот день, весь заполненный суетой и плачем. Помнил только глаза матери, ее руки, слезы. Соболезнования, слившиеся в одно, длинное, бесконечное. Помнил еще осуждающие взгляды — они были, не привиделось ему, и нельзя было от этого никуда деться, потому что на самом деле его вина. Его, и только его вина, он вины с себя не снимает, не прогоняет прочь, сживается с ней, зная, что это на всю жизнь. Спутался с малолетней девчонкой, натворил глупостей, и вот чем все обернулось… Так они и останутся теперь вдвоем — он и его вина. И мать, поседевшая за один день.