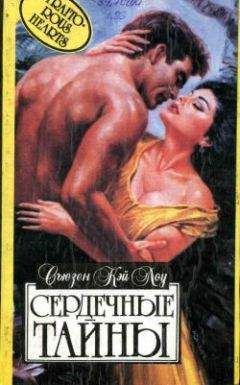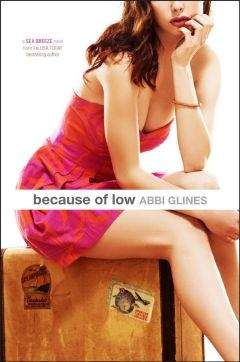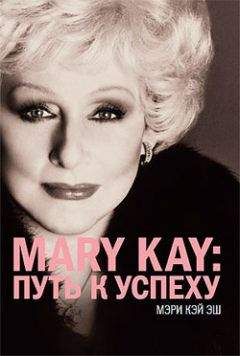– И так ты стал шпионом?
– Да, – он сломал последнюю соломинку. – Меня действительно ударила лошадь, ты знаешь. Три года назад. Когда я пришел в себя, я был… я не мог нормально говорить несколько дней. И я заметил, что на меня не обращают особого внимания. Они решили, что если я не понимаю, что говорю сам, то не пойму и то, что говорят они. Они не остерегались меня, и я собрал такие сведения, которые, будь я нормальным, не получил бы и за месяц.
– И ты решил продолжать в том же духе?
– Да. Это было довольно просто, как ты видишь.
– Но как тебе удавалось притворяться так долго?
– Я думал, что поступаю верно.
Она отдала бы все, что угодно, чтобы прогнать тоску и безнадежность с его лица.
– Ну, ладно, хватит об этом. – Он взял еще одну соломинку и провел по щеке Бэнни. Она тихо засмеялась.
– А ты?
– Что я?
– Как ты стала тем, кто ты есть сейчас?
– Я всегда была такой.
«Неужели, – подумал он. – Неужели она всегда была такой непохожей на всех остальных женщин?»
– Ты хочешь остаться такой всегда?
– Да, думаю, хочу.
– Однажды ты сказала мне, что все, что тебе нужно, – это твоя семья и твоя музыка.
– Ты помнишь? – она была явно удивлена.
– Да. Но ведь есть и другие вещи. Предположим, своя собственная семья?
– Ну, этого у меня никогда не будет. – Элизабет слегка покраснела, застенчиво улыбнулась и опустила голову:
«Я хочу, чтобы он смотрел на меня и видел меня – думала она. – Видел меня, а не очередного отпрыска Джоунза, похожего на своих братьев. Или женщину, которая никогда не может выглядеть, как настоящая женщина, как ее мать. Или того, кто всегда был выше всех, и в школе, и сейчас. Я хочу, чтобы он видел… меня».
– Бесс, – он нежно погладил ее по щеке. – Ты сыграешь для меня снова?
Бэнни теперь хранила свою скрипку здесь, на сеновале. Конечно, высокая температура и влажность могли повредить инструмент, но так было легче: теперь ей не нужно было тайком от матери выносить скрипку из дома. Она открыла кожаный футляр. Гладкое дерево заблестело, подмигивая ей, как старый друг. Бесс вынула инструмент. Слегка нахмурясь, она сосредоточенно подтянула струны. Наконец, удовлетворенно кивнув головой, начала играть.
Раньше, когда Бесс играла для него, он часто закрывал глаза: боялся, что она заметит в его взгляде такое выражение, которое скажет ей, что он не тот, за кого себя выдает. Теперь же он открыто смотрел на нее. Элизабет была поглощена музыкой, порой закрывала глаза и покачивалась из стороны в сторону. На ее лице отражалась глубокая страсть и все те чувства, которые она хотела выразить игрой.
Бэнни играла до тех пор, пока у нее не заболели спина и пальцы. Она знала, что Джон смотрит на нее. Да, играть для кого-то гораздо лучше, чем только для себя. И все же понимала, что не могла бы играть не для кого, кроме него, потому что никто не смог бы разделить с ней ее музыку, как Джон. Он чувствовал ее музыку, и она была бесконечно благодарна ему за это. В изнеможении она опустилась на одеяло. Он медленно зааплодировал.
Покраснев от удовольствия, Бесс приложила палец к губам.
– Ш-ш-ш. Кто-нибудь может услышать, и мне придется сказать, что я сама себе аплодирую.
– Извини. Я забыл.
Это правда. Пока она играла, а он смотрел на нее и слушал, Джонатан забыл, где находится, и как сюда попал. Забыл все, что сделал, и все, что ему придется сделать. Это было божественно. Но все уже закончилось. Улыбка быстро сошла с его лица. Она заметила, и ей тут же захотелось снова взять скрипку и сыграть что-нибудь легкое и веселое, чтобы вернуть эту улыбку.
Но на его лице появилось новое выражение твердой решимости, и Бэнни вдруг засомневалась, что сможет вернуть эту улыбку, как бы хорошо ни играла. Она благоговейно убрала скрипку обратно в футляр и повернулась к Джону.
– Ты не забудешь про одежду? Ее сердце упало.
– Нет. Завтра принесу.
Она принесла ему одежду утром вместе с завтраком и вернулась днем, захватив еще еды. Но их разговор был вялым и неловким. Что они могли сказать друг другу? Он больше не мог ничего ей рассказать, а она не осмеливалась больше ни о чем спросить. Бэнни пообещала придти на закате и принести еще еды, чтобы он мог взять с собой в дорогу.
Вечер был тихим и теплым. В траве, ярко-зеленой после дождя, пели сверчки. В лучах заходящего солнца листва деревьев казалась золотой.
Когда Бесс поднялась на сеновал, Джонатан зашнуровывал новые ботинки Генри. Интересно, как она объяснит братьям, что случилось с их вещами, пока их не было дома. Он помахал ей рукой в знак приветствия, потом выпрямился, и сердце Бэнни учащенно забилось.
Как солдат в бело-красной форме он был красив. Как раненый в старых брюках и мало что скрываемой повязке он был неотразим. Но, одетый в простую одежду поселенцев, он смотрелся просто потрясающе.
Белая льняная рубашка свободно облегала его широкие плечи. На нем были толстые шерстяные носки и темно-коричневые бриджи, а волосы завязаны сзади в пучок лентой. Джонатан выглядел просто образцом настоящего Американца. Бэнни знала, что ее братья, гордившиеся своей внешностью, сейчас позавидовали тому, как этот английский солдат выглядел в одежде, которую они, сами того не зная, одолжили ему.
– Бесс?
Он подошел к ней настолько близко, насколько осмелился, но гораздо дальше, чем ему хотелось бы. Она была удивительно хороша, но на ее лице не было и тени улыбки.
Он провел довольно много времени, зашивая пакет в подкладку куртки, которую дала ему Бесс. Как только он пришел в сознание, он кинулся искать его. К его величайшему облегчению, он обнаружил, что пакет все еще надежно спрятан в поясе, который он обмотал вокруг талии. Вся его одежда – окровавленный пояс, рубашка, камзол – валялись здесь, в углу сеновала. Очевидно, у Бэнни не было времени избавиться от нее. Все время, пока он колол себе пальцы иглой, которую он взял в сумке, принесенной Бесс, он пытался придумать хотя бы одну самую слабую причину, чтобы остаться здесь еще на день или два. Это было не трудно: он еще недостаточно окреп, еще один день отсутствия в расположении роты ничего не изменит, ему нужно время, чтобы придумать правдоподобное объяснение своему внезапному исчезновению.
Но все это были лишь отговорки. Он это прекрасно знал. Ему просто хотелось снова и снова смотреть на нее. И все же весомой причины у него не было ни одной. У него есть сведения, которые он обязан доставить по назначению, и ему еще нужно как-то выяснить, что же произошло той ночью в крепости.
У него есть работа, к которой он обязан вернуться. И если эта работа оказалась гораздо безобразнее, чем он думал, это все равно был его долг.