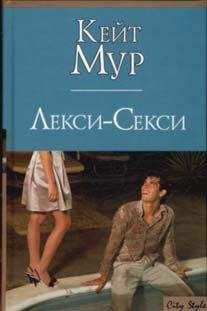– Я даже не сразу поняла, зачем ты их выставил, – говорит Рут.
– Потому что я хотел, чтобы ты посмотрела на них при естественном освещении.
– То есть картины, которые ты купил.
Вот чем я занимался, пока Рут общалась с преподавателями. И утром, накануне отъезда, я позвонил, чтобы удостовериться, что картины поставят у озера вовремя.
– Да, – ответил я. – Картины, которые я купил.
– Знаешь, что ты сделал?
Я ответил, тщательно подобрав слова:
– Я сделал тебя счастливой?
– Да, – отвечает Рут. – Но ты же понимаешь, что я имею в виду.
– Я купил картины исключительно потому, что ты обожала современное искусство.
– И все-таки… – настаивает она, добиваясь ответа.
– И они не так уж дорого стоили, – твердо отвечаю я. – Тогда их авторы еще не обрели славу, а были просто молодыми художниками.
Рут склоняется ко мне, ожидая продолжения.
– И?…
Я вздыхаю, зная, что она хочет услышать.
– Я купил картины, потому что я страшный эгоист.
И я не лгу. Я купил их не только для Рут, потому что любил ее – а она любила живопись, – но и для себя тоже.
На выставке Рут преображалась. Мы уже побывали в бесчисленных галереях, но в Блэк-Маунтинс в ней пробудилось нечто новое. Каким-то странным образом усилилась чувственная сторона ее натуры, возросла природная харизма. Когда Рут рассматривала холст, взгляд ее был внимателен, на лице появлялся румянец, а все тело выражало такое эмоциональное напряжение, которое окружающие не могли не заметить. Рут со своей стороны совершенно не сознавала, насколько менялась в такие минуты. Вот почему, как я убедился, художники так охотно с ней общались. Их, как и меня, непреодолимо влекло к Рут, и поэтому они согласились продать несколько картин.
Эта эклектичная, в высшей мере чувственная атмосфера сохранилась и после нашего возвращения домой. За ужином глаза у Рут сверкали, словно она замечала то, чего не замечали другие, в движениях появилось изящество, которого я не видел раньше. Я едва дождался той минуты, когда мы вернулись в комнату, и там Рут проявила особенную страсть и изобретательность. Помнится, я думал: что бы там ни послужило поводом, пусть это продолжается как можно дольше.
Иными словами это был чистейший эгоизм с моей стороны.
– Нет, ты не эгоист, – возражает Рут. – Вот уж точно не эгоист.
Она такая же красавица, как в то последнее утро нашего медового месяца, когда мы стояли у озера.
– Хорошо, что я никогда не позволял тебе знакомиться с другими мужчинами, иначе ты бы живо передумала.
Она смеется.
– Да уж, пошутить ты умеешь. Ты всегда любил разыгрывать этакого балагура. Но говорю тебе, меня изменила не выставка.
– Откуда ты знаешь? Ты же себя не видела со стороны.
Рут снова смеется и тут же замолкает. Внезапно по-серьезнев, она просит отнестись внимательно к ее словам.
– Вот что я думаю. Да, я любила искусство. Но гораздо приятней было то, что ты охотно проводил массу времени, делая то, что нравилось мне. Я так обрадовалась, когда поняла, что вышла за человека, который на это способен. Ты думаешь, что ничего особенного не сделал, но вот что я тебе скажу: не много есть на свете мужчин, которые способны проводить пять-шесть часов в день во время своего медового месяца, болтая с незнакомцами и разглядывая картины, особенно если они не разбираются в живописи.
– И к чему ты клонишь?
– Я хочу сказать, что дело не в картинах, а в том, как ты отнесся к тому, что я смотрела картины. Иными словами, я изменилась благодаря тебе.
Мы много лет об этом спорили и, видимо, до сих пор придерживаемся разного мнения. Я не сумею переубедить Рут, и она меня тоже, но какая, в общем, разница? Так или иначе, медовый месяц положил начало традиции, которая продолжалась всю жизнь. Когда наконец в «Нью-Йоркере» появилась та злополучная статья, коллекция стала синонимом нашего образа жизни.
Шесть картин, которые я упаковал и сложил на заднем сиденье, когда мы отправились домой, были первыми из десятков, а затем и из сотен произведений, которые мы в конце концов собрали (всего их около тысячи). Всем известны имена Ван Гога, Рембрандта, Леонардо да Винчи, но мы с Рут сосредоточились на американском искусстве двадцатого века, и большинство художников, с которыми мы познакомились с течением времени, писали картины, за которыми впоследствии гонялись музеи и другие коллекционеры. Художники наподобие Энди Уорхола, Джаспера Джонса и Джексона Поллока постепенно стали нам родными, но и работы других, менее известных, например Раушенберга, де Кунинга и Ротко, в дальнейшем уходили с молотка в «Сотбис» и «Кристис» за миллионы долларов, иногда дороже. «Женщина III» Виллема де Кунинга была продана в 2006 году за сто тридцать семь миллионов долларов, и под бесчисленным множеством картин, в том числе Кена Ноланда и Рэя Джонсона, стояла семизначная сумма.
Разумеется, не каждый современный художник становится знаменитым, и не все картины, которые мы приобретали, становились исключительно ценными, но это никогда не было для нас решающим фактором, когда мы размышляли, купить или нет очередное произведение. Картина, которую я ставлю выше остальных, вообще ничего не стоит. Ее написал бывший ученик Рут, и она висит над камином – любительский рисунок, который имеет особое значение только для меня. Журналистка из «Нью-Йоркера» совершенно не обратила на нее внимания, а я не стал рассказывать, отчего эта вещь мне так дорога: я знал, что она не поймет. В конце концов, она ведь не поняла, что я имел в виду, когда сказал, что денежная ценность картин для меня несущественна. В первую очередь она желала знать, каким образом мы собрали коллекцию. Но даже когда я объяснил, она явно не успокоилась.
– Почему она ничего не поняла? – вдруг спрашивает Рут.
– Не знаю.
– Ты сказал ей то же, что мы говорили всегда?
– Да.
– Ну и что тут сложного? Я обычно объясняла тебе, что чувствую, глядя на картину…
– …а я просто наблюдал за тобой, – заканчиваю я, – чтобы понять, покупать ее или нет.
Ничего научного, но у нас это правило работало, даже если объяснение не удовлетворило журналистку. И во время медового месяца оно работало особенно четко, пусть даже мы оба за пятьдесят лет так и не оценили в полной мере последствия.
В конце концов, не каждая пара во время своего медового месяца скупает произведения Кена Ноланда, Рэя Джонсона и Элейн, чьи картины теперь висят в крупнейших мировых музеях, в том числе в «Метрополитен». И конечно, почти невозможно постичь то, как мы с Рут сумели приобрести не только внушительное полотно Роберта Раушенберга, но и две картины мужа Элейн, Виллема де Кунинга.