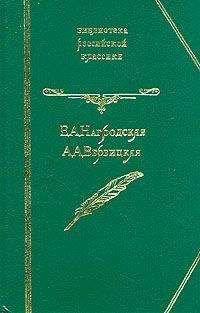— Конечно, должны. Да идите вы! — и она дернула меня за руку.
— Катя, а Илья?
— Ну, что Илья? Что его кислая любовь в сравнении с этим отчаянием, с этой любовью до бешенства, до безумия! Илья — утешится, он не ребенок, как тот. Илья сумеет даже наговорить вам хороших слов, при таких обстоятельствах…
— Катя, где ваша любовь к брату?
— Ах, да когда надо жертвовать, жертвуют тем, что менее дорого!
— Катя, вы любите Старка?!
— Да, я люблю его, но не так, как вы сейчас вообразили, развратная вы женщина!
Я люблю его так же, как его сына, они оба для меня дети — умные, милые дети: один побольше, другой поменьше. Они оба за это время стали мне бесконечно дороги. Никто, кроме мамы, не занимал такого места в моем сердце! Я существо бесполое. Я — настоящая старая дева, я никогда не искала, как вы, привязанности мужчины. Я отдавала все свое сердце своим близким, а все, кроме мамы, отталкивали меня. Илья — для вас. Женя и Андрей — сама не знаю почему, может быть, потому, что я была старшей, была строга с ними. Папа никого из нас не любил, кроме Жени, и то потому, что она была хорошенькая. Никто не ласкал меня, даже мама, а я сама из самолюбия не шла искать ласки…
А это дитя ласкало меня, как родную! От этого человека я видела братскую нежность и заботу! Они не обратили внимания на мою угрюмость и дикость, они полюбили меня, и им я отдала все мое сердце! Идите же вы!
— Катя, Катя, вы не все знаете. Вы не знаете Ильи. У него такой же характер, как и у вас, и я подошла к нему с лаской — оттого он и полюбил меня. А теперь? Теперь, вы тоже этого не знаете, Катя, он болен, у него болезнь сердца — и на этот раз я убью его.
— Проклятая женщина! — Катя схватывается за голову, а я стою перед ней, как подсудимая перед строгим судьей.
— Что делать? Господи, что делать? — цедит она сквозь зубы.
— Латчинов советовал мне лгать! Лгать тому и другому, — прошептала я, как в бреду.
— Да! Да! — закричала она. — Солгите, солгите им обоим, это одно средство, чтобы обоих сделать счастливыми! Да! Да!
— Катя! Катя! Ведь это подлость!
— А вы хотите остаться честной? Боитесь запачкаться? Хотите сохранить уважение к себе, хотя бы это стоило жизни одному из любящих вас людей! Вы честны, вы правдивы, я это знаю. Так вот и сделайте подлость, и казнитесь всю жизнь этим сознанием!
Презирайте себя! Вы всегда на себя любовались!
Подлость! Подлость! Эта подлость будет единственный ваш поступок, где вы действовали без эгоизма!
Она задохнулась. Мои ноги дрожали, и я опустилась на стул, — Да есть у вас хоть жалость! Зверь вы или человек? Если бы я знала, что этим я не нанесу горя дорогим для меня существам, я с наслаждением вас сейчас задушила бы, так я вас ненавижу!
Я ненавижу эту вашу жестокую честность!
Это тупоумное чувство долга!
Там, где гибнут тысячи людей «за идею», там не должно быть жалости к единицам! И в этом случае я пожертвовала бы любимыми существами, как пожертвовала бы и своей жизнью!
Но жертвовать этими жизнями только потому, что страдает моя собственная мораль… Если бы еще вы боролись с чувством отвращения к этому человеку, я бы поняла вас! Я понимаю девушку, которая не решается продать свое тело, чтобы спасти от голода свою семью. Я понимаю Юдифь! Я понимаю отчаяние Сони Мармеладовой… А вы?.. У вас нет этого оправдания! Вы сами боретесь с собой, вы жаждете его объятий! Смотрите! Вот он лежит там, такой нежный и прекрасный, ваш Дионис! И вы сгораете от желания идти туда!
Так что же вас удерживает? Не женская же стыдливость!?
Да сжальтесь же вы, наконец! Солгите, Таня… Я вас ненавижу… но… но если вы… если…
Она вдруг упала передо мною на колени.
— Таня, я молю вас! Я ненавижу вас, но я ваша раба на всю жизнь, если она оба будут счастливы! Я… я… кажется, полюблю вас…
Слезы хлынули из ее глаз, и она упала головой у моих ног.
— Идем! — вскочила я. — Вы правы! Я иду, иду туда, и буду лгать и тому и другому — всю жизнь, всю жизнь, презирая себя!
Так мне и надо!
Что ж, я не могу бороться с обстоятельствами. Мне удобно, а думать я себе не позволяю. Мне скверно, я страдаю… зато все вокруг меня довольны.
Ну, пусть так и будет.
Вот эти глаза, покорные и страстные, в них так и сияет счастье.
А это милое маленькое личико, теперь всегда веселое.
Оба они за это время, кажется, поздоровели и похорошели.
Дитя, с его бессознательной чуткостью, невольно чувствует, что что-то тяжелое устранено.
Он с радостным изумлением видит, что папа и мама оба тут, рядом, что можно беспрепятственно заставлять их целоваться, что между ними нет резких слов и движений, которые так пугали его, что он может болтать, что хочет, не получая поминутно приказания замолчать.
Делиться по вечерам не надо, а можно усесться между папой и мамой, и оба тут, оба улыбаются ему, его лепету, его ласкам.
А Катя? Она не может любить меня. Это невозможно, но она как-то смущена и растрогана. Она как будто растаяла: застенчиво отвечает на ласковые слова Старка и Лулу и не старается, как прежде, избегать нашего общества.
Васенька делает вид, что он ничего не замечает, но и он сияет.
Я вижу, что Кате и Васеньке нет до меня никакого дела, но те, кого они любят, счастливы — и они ходят именинниками.
Вчера Васенька увидел, что я сидела, сжав голову руками. Что он прочел на моем лице, я не знаю, но он толкнул меня в бок и сказал шепотом:
— Подберитесь, мамаша! Неравно Дионисий увидит.
Васенька, который был всегда так отзывчив на мои радости и горести, беспокоится только о том, чтобы Старк не огорчился моим грустным видом.
А до того, что чувствую я, ему нет дела, я должна «подобраться» — вот и все.
Латчинов завтра уезжает в Россию. Я готова плакать, так мне жаль с ним расставаться, но я рада, что он поедет к Илье, успокоит и утешит его. Значит, все кругом будут довольны и счастливы.
Эти дни Латчинову нездоровится хуже прежнего: он ходит с палкой, лицо его как лимон от разлившейся желчи.
У Латчинова застарелая болезнь печени, а лечиться он не любит.
Несмотря на болезненное состояние, он по-прежнему спокоен и шутлив.
Мы уговариваем его отложить поездку.
— Ведь это глупо, Александр, вы можете совсем разболеться в дороге, — говорит ему Старк.
— Мне нужно ехать скорее — у меня дела в России.
— Неужели ваши дела не могут быть отложены на две недели. Вы поедете вместе с Таточкой, а не одни.
— Право, я не могу, уверяю вас.
— Вот Тата уедет, вы уедете — что за тоска! Ну, мадемуазель Катя, как хотите, я вас не пущу в Лондон с вашими ученицами. Если уж вы хотите непременно видеть Лондон, подождите немножко: я освобожусь от срочных дел, мы возьмем Лулу и втроем поедем туда. Кстати, покажем Лулу его бабушкам. Ну, милочка, Катенька, не бросите же вы меня одного — вы добрая! Это Александр выдумывает разные дела, чтобы ему не пришлось утешать меня, пока со мной не будет Таточки.