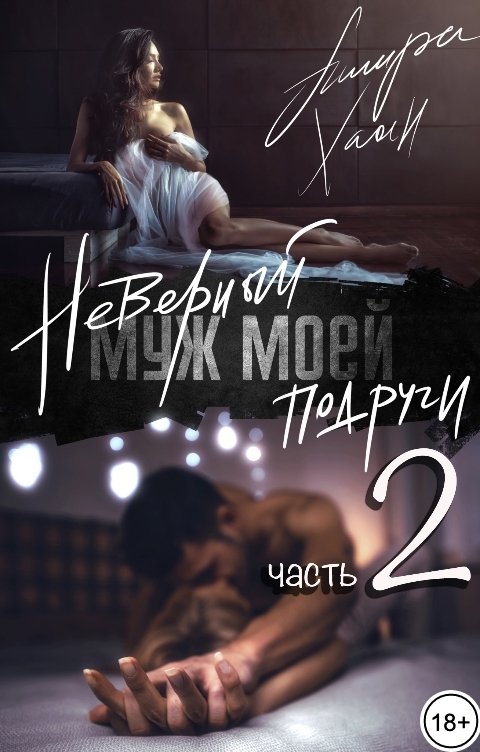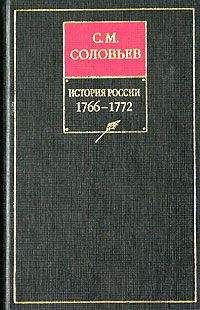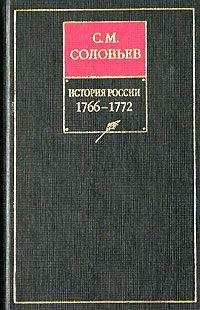тобой. Я купил квартиру Поле, ее матери, Марусе. Я купил…
— Я знаю, — шепчу я, втягивая носом его запах, потому что вряд ли когда-нибудь окажусь еще так близко. Но Герман пахнет только летней грозой, а розмарина, сколько ни ищу, все нет. — Знаю, знаю, знаю.
— Я ушел от нее, я давно не…
— Знаю…
— Я не могу без тебя. Ты часть моей жизни, ты делаешь меня живым. Настоящим. Я…
— Знаю! Но того, что мы натворили, уже никак не исправить, понимаешь? — я все-таки ломаюсь и осторожно освобождаю руку, чтобы провести пальцем по черному завитку на шее. — Мы не должны были поступать так с теми, кому обещали быть верными.
— Лана… — Герман проводит губами по моему виску. Его шепот сочится отчаянием, но я не могу ничего с этим поделать. — Это все прошлое, пойми. Мы исправим, что можем, а остальное — уже случилось.
— Нет… — я мотаю головой. — Мы не можем строить свое счастье на чьем-то несчастье.
— Можем! — он стискивает меня так сильно, что тяжело дышать. — Кому мы сделаем плохо, если будем счастливы?
— Игорю… — говорю без голоса. — Он еще не знает. И я не хочу, чтобы он узнал. Чтобы мальчишки почувствовали…
Герман выпускает меня, я мгновенно делаю шаг назад и вдыхаю запах влажного бетона расправившимися легкими. Только легче не становится — черный взгляд пригвождает меня к полу. Только что этот мужчина был самым близким, его шепот был похож на голос моего искушения — идущий изнутри, слишком убедительный, чтобы сопротивляться.
А теперь он — снова чужой. Чужой муж. Смотрит пристально черными глазами. Требовательно.
— Ты правда хочешь остаться с ним?
— Да.
— Ты не шутишь?
Не выдерживаю этой черноты навылет в его взгляде, опускаю глаза.
— Тогда я расскажу ему о нас, и проблема будет решена, — жесткий голос Германа напоминает мне о том, что в большом бизнесе слабаки, не умеющие принимать непопулярные решения, просто не выживают.
Но я сначала долго смотрю в пол, а потом говорю очень тихо, не поднимая глаз:
— Не скажешь.
И еще через паузу он с досадой подтверждает:
— Не скажу.
Слабак.
Сегодня я сильнее него, потому что точно знаю, что за мной — истина.
— Но это бы все равно ничего не изменило. Он простит мне все, лишь бы я была с ним. Мы оба выбрали строить семью, что бы ни случилось. И если он может меня простить, то и я… могу.
— Выбрать его?
— Поступить правильно.
Тишина такая глухая, что я еще раз стучу каблуком об пол, только чтобы понять, что не оглохла.
И почти не слышу слившееся со стуком тихое:
— А я?
— Каждый из нас несет свой грех в одиночку. — Говорю я. — Помнишь? Ты сам так сказал.
— Лана… — он снова пытается меня обнять, но я делаю еще один шаг назад и на этот раз поднимаю взгляд, встречаясь с черными глазами.
— Нет, Герман. Я все решила, — говорю твердо. — Мы слишком виноваты. Я слишком виновата. Ты решил, я решила. Пойми меня. И прости.
Он смотрит так долго, что мне не останется ничего, кроме как повторить еще раз:
— Прости.
Герман качает головой. Сначала хмурясь и не веря, а потом все медленнее и медленнее.
Потому что я не отвожу взгляд. Просто жду, когда он наконец поймет.
— Но ведь надежда есть? — спрашивает он, шагая ко мне, вновь хватая меня за плечи, встряхивая. — Скажи, что когда-нибудь, ну! Скажи, что однажды ты передумаешь!
— Когда-нибудь, — говорю я спокойно, даже не пытаясь вырваться или обнять его в ответ. Вспыхнувшая радость на его лице причиняет мне самую сильную в жизни боль. — Когда мы станем другими людьми, и все последствия наших подлостей сойдут на нет. Лет через десять. Или двадцать. Или…
Я вижу, что его взгляд леденеет. Словно южная темная ночь оборачивается беззвездной пустотой космоса. Чувствую, как слабеет хватка крепких пальцев на моих плечах. Как медленно они разжимаются и скользят вниз по моей коже.
Освобождая меня.
Отпуская.
Его тело уже знает то, с чем пока не смирился разум.
— Или не в этой жизни, — заканчиваю я. — В этой мы слишком много причинили зла, чтобы быть счастливыми. Вряд ли твоя жена простит. Вряд ли твоя дочь забудет.
Я не спешу прерывать тишину между нами.
В которой звучит последнее:
— Пожалуйста, Лана…
Очень тихое.
Разрывающее в клочья мое собственное сердце.
Мне нечем дышать. Но мне и не надо.
Если молчать и не шевелиться, он поймет.
Поймет и уйдет.
Все силы уходят только на то, чтобы молчать и не шевелиться.
Герман делает шаг назад.
— Лана… — так тихо, что, наверное, мне это чудится. Даже губы его почти не шевелятся. — Что ты делаешь?
Качаю головой — еле заметно, но он видит.
Понимание и смирение срывается с его губ последним выдохом.
Он разворачивается и уходит.
С очень прямой спиной, засунув руки в карманы светлых брюк. Нажимает кнопку за шлагбаумом, и железные ворота начинают медленно ползти вверх, впуская в бетонную пещеру бешеный шум воды, низвергающейся с небес, грохот грома и шум ветра.
Герман ждет, пока створка ворот поднимется достаточно, слегка пригибает голову и уходит прямо в ад урагана. Без зонта и пешком. Один.
У меня подкашиваются ноги.
Давно. Просто я придумываю себе много лишнего
Давно. Просто я придумываю себе много лишнего
Одиночество бывает невыносимым. Кажется, будро весь мир разбился на парочки, и у всех, вообще у всех есть, к кому прижаться, когда холодно или грустно.
Кроме меня.
Особенно вот в такие моменты, когда за окном хлипкого дачного домика третий день шел дождь, и тяжелые белые гроздья гортензий все сильнее клонились к земле, а еще сочную зеленую траву уже покрывали первые желтые листочки, сбитые крупными