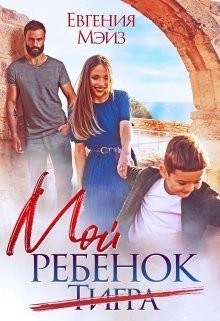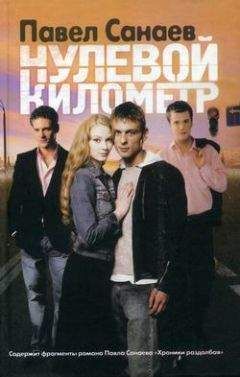– И не издевайся над ребенком, только лишь потому, что тяжело переносишь похмелье. В ее жизни и так достаточно разочарований, – не поворачивается. Лишь слегка наклоняет голову, и резко выпускает воздух, прижимая ладонь к пострадавшему ребру. – Поешь и прими холодный душ. Обычно, это неплохо помогает. А я бы не отказался от обезболивающего.
Жаль, только не в моем случае, ведь вряд ли пятнадцать минут под ледяными струями сумеют справиться с этой проблемой: кто-то внутри меня, кому я так долго не позволяла выбраться на поверхность, впервые берет надо мной верх. Использует брешь, что я не успела залатать, овладевает сознанием и заставляет подняться с дивана, моими руками поправляя сбившийся на груди халат. Уверенно идет к старенькой югославской стенке, которую Нюра в свое время усердно натирала полиролью, и со скрипом открывает дверцу, хватая обувную коробку с лекарствами. Отыскивает дешевую мазь и подходит к притихшему мужчине почти вплотную, моим голосом прося повернуться.
– Больно? – почти шепчу, ведь говорить громче, когда единственное, что ты можешь делать – морщиться всякий раз, когда лицо Макса искажает гримаса отчаяния, у меня не выходит. – Давай обработаем. У Лиды полно средств от синяков.
И очень жаль, что мне не найти ни одной пилюли от ее хронического заболевания. С удовольствием проглотила бы горькую таблетку, и терпеливо ждала, пока мое сердце сравняет свой ритм и, наконец, перестанет колотиться как бешеное в его присутствии. Ведь я сдулась. Распрощалась с собственными планами игнорировать это влечение, только что про себя согласилась с каждым его словом, и для финального штриха мне осталось растечься лужей под мужскими ногами. Глубокой лужей, желательно скрывающей Бирюкова с головой, чтобы капли воды сумели осесть в каждой клетке, проникнуть в легкие и подчинили моей воле.
– Не надо.
– Разве? Как тебе, вообще, в голову пришло отправиться на пробежку? Снимай, – киваю на влажную ткань, скрывающую от меня его широкую грудь, и смущенно отвожу глаза в сторону, почти мгновенно осознавая, насколько абсурдно выгляжу. Чего мне стесняться? Разве это не часть моей работы, стойко сносить вид обнаженного мужского тела?
– Снимай, Бирюков. Может, это мой единственный шанс, отплатить за твою доброту.
Или окончательно пасть, переломав кости от жесткого удара о землю. Ведь мне никогда не стать ни приятным воспоминанием, ни крохотным шрамом на его душе, пусть в голове еще и звучат слова, разносящиеся эхом по длинному больничному коридору. Вон он как сторонится, стоит мне ухватить подрагивающими пальцами мокрую ткань его тесной футболки…
– Я сам, – одной рукой стягивает ее со спины и тут же швыряет на кресло, в отличие от меня ничуть не стесняясь своей наготы. Разве что кубики пресса резко сокращаются, едва я тянусь к гигантскому синяку, оставленному на его корпусе перепившим пиво байкером. – Давай мазь. Я и сам могу.
– А мне нетрудно, – хотя кого я обманываю, если вот-вот брошусь наутек с сильнейшим ожогом на подушечках пальцев?
Качаю головой, наплевав на его протесты, и нерешительно касаюсь внушительной гематомы, больше не слыша ни барабанящих в окно дождевых капель, ни раскатов грома, сотрясающих отяжелевшее небо. Лишь шум собственной крови в ушах, его дыхание, опаляющее щеку и слегка раскачивающее тонкую прядку моих волос, да тихий голос в голове, отчаянно пытающийся меня убедить, что я лечу его совершенно неправильно. Что стоит только дотронуться этих отметин губами и кровоподтек исчезнет, Бирюков исцелиться, а я… какая разница, что со мной будет потом?
Боже, я классический пример женского непостоянства: отправила файл с его именем в корзину, но прежде, чем удалить безвозвратно, одернула руку от компьютерной мыши. Знала, что он, как вирус, проник в каждую папку, и все равно побоялась сделать последний шаг, решительно выбирая заветное поле «восстановить».
– Все, – краснею, стараясь не смотреть ему в глаза, что все это время пристально следят за моими действиями, и с трудом закручиваю треснувший колпачок, тут же бросая тюбик на комод. – Покажешь плечо? Думаю, обработать его зеленкой ума мне хватит.
Если он, вообще, у меня есть. Если голова дарована мне природой не для красивых причесок и макияжа, ведь прямо сейчас я творю что-то совсем нелогичное: жадно тяну носом его аромат, скольжу взором по позвоночнику, задерживаясь глазами на рельефных мышцах, и, напрочь позабыв о своей задаче, считаю родинки под левой лопаткой, мелкой россыпью образующих неизвестное науке созвездие. Их семь. Если не считать эту крохотную точку, упавшую чуточкой ниже. На поясницу, дотрагиваться до которой мне вовсе не велено…
– Заснула? – вздрагиваю в миллиметре от запретного прикосновения и, собрав всю волю в кулак, перевожу свой взор на рваную рану на его плече, размером с десятирублевую монету.
– Щиплет?
– Нет, – а я все равно дую, получая больное удовольствие от проступающих на коже мурашек. Точно таких же, что бегут по моей спине, приподнимают волоски на руках и, достигая кончиков пальцев, заставляют обронить на пол ватный тампон…
– Что ты делаешь?
Черт его знает. Целую? Прежде чем успеваю привести миллиард аргументов, запрещающих мне это делать… Несмело, и единственное, о чем готова сейчас молить небеса, чтобы это мгновение растянулось в вечность. Стало моей личной тюрьмой, в которой я сама себя заточу без права на досрочное освобождение. Чтобы солоноватый вкус дождя, разгоряченного пробежкой тела и все того же волнующего меня морского бриза, вытеснил горечь с языка, мгновенно скользнувшую в горло от произнесенного с хрипотцой вопроса, правдивый ответ на который я никогда не озвучу.
Максим
С ней явно что-то не так. Непочатый край работы для опытного мозгоправа, и если как можно скорее ее не изолировать, я рискую заразиться. Бросьте! Я уже болен. Чувствую, как с треском рушатся все установленные мной границы, как шумно дышит внутри оголодавший зверь, насытить которого сможет только она, и как агония ломает кости, порабощая своей воле. Я должен ее коснуться.
Накрываю женскую ладонь, устроившуюся на моей груди, и совершенно не знаю, что теперь делать. Оттолкнуть? Напомнить, что она принадлежит другому, и между нами гигантская пропасть, преодолеть которую нам вряд ли когда-то удастся? Отцепить ее пальцы, пробравшиеся под кожу и прямо сейчас сомкнувшиеся на лихорадочно бьющемся сердце, и махнуть перед лицом правами? Чтобы вспомнила, кого обнимает так, словно стоит нам разорвать объятия, и она замертво рухнет вниз?
– Не знаю. Наверное, что-то неправильное, – дрожит, прижавшись к моей спине, и я уверен, что каждое ее слово сплетается в витиеватый узор в том самом месте, где только что были ее горячие губы. Без всяких игл, чернил и жужжания машинки растекается под кожей и навеки останется там, как сама суть происходящего между нами безумия. Неправильно, разве нет? Только сколько ни повторяй это про себя, бредовые мысли из головы истина не вытесняет.
– Не знаю, – и эти руки, что она едва ли не силой отнимает от моей груди убирать уже слишком поздно – что-то разбилось вдребезги, похоронив каждый мой довод под мелкими осколками. – Прости.
Щербакова отступает, а я думаю только том, что лишь оттягиваю неизбежное. Сопротивляюсь тому, чему в параллельной реальности, где между нами нет незримых теней, сдался бы без раздумий. Я обречен. Все равно разобьюсь, так какая разница на какой отметке замрет стрелка спидометра? Имеет ли какое-то значение, как долго я буду добираться до рокового поворота, если аварии не избежать – это уже нечто большее, чем простое желание, это острая необходимость, зависимость, управляющая тобой, как марионеткой.
– Ты не ответила на мой вопрос, – хватаю ее ладонь и, если быть честным, не надеюсь, что она поймет меня правильно. Что Юля помнит хоть слово из нашего разговора в тесной кухне, воздух которой трещал от жара сбившегося дыхания… Ведь я по-прежнему неплатежеспособен, пусть какая-то часть меня и убеждена, что передо мной вовсе не та светская львица, что ради наживы делит постель с известным банкиром.