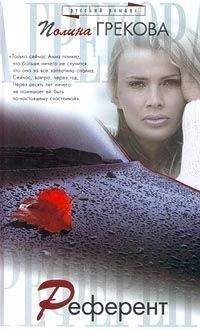Она вошла в мой дом так же, как и в мою жизнь, – не спрашивая разрешения, скрывая неловкость под маской экзальтации. У меня не хватило духу ее выгнать. Потом я не видел в этом смысла. Еще позже появился не только смысл, но и явная потребность в ее уходе – но духу не хватило снова.
На протяжении пяти лет она холила это жилище, постепенно все переделывая и переставляя по своему вкусу – впрочем, довольно удачно, – так же, как медленно переделывала и переставляла все в моей жизни.
В последний год у меня завелась более-менее постоянная любовница на стороне. Мы встречались несколько месяцев кряду, она была «немножко замужем» (брак висел на волоске, она намекала на возможность разрыва, пожелай я того). Вначале я тщательно скрывал эту связь, она не была для меня чем-то ценным и уж точно я не собирался разводить бедную женщину с мужем. Потом скрывать надоело. Как-то раз, придя домой с незаконного свидания, я что-то нехотя врал ждавшей меня «сиротке», когда заметил, что она не столько слушает меня, сколько нюхает. Она уловила чужой запах, я видел это по ее лицу, но не сказала ни слова. Странное чувство я тогда испытал – гаденькое и сладкое, – мстительное такое чувство. Я ничего плохого не делаю ей, я просто живу так, как считаю нужным, и если ей это не нравится – пожалуйста, двери всегда открыты.
Созрела мысль заставить ее саму принять решение. Пусть наконец перестанет строить из себя кроткую крошку, пусть разразится безобразной истерикой, пусть лезет в мои дела, швыряет об пол тарелки, пусть станет невыносимой по общепринятым меркам – тогда я буду иметь полное моральное право вышвырнуть ее вон. Привить мне понятия о благородстве вполне это допускали.
Но она молчала. Она продолжала молчать, когда возвращался домой под утро, когда отвечал на подозрительные телефонные звонки, когда любая другая на ее месте давно бы взорвалась. Это не было молчание ненависти или молчание укора – это было покорное молчание, или приветливое молчание, или даже молчание сочувственное.
Она все понимала. Все абсолютно. Эту ее кротость никак нельзя было списать на блаженное неведение. Он знала – и терпела. И тогда созрела следующая мысль – о том, что она терпит мне назло, чтобы дать мне почувствовать ее превосходство над такой неблагодарной скотиной, как я.
Я говорил ранее, что не припомню ее за какими-то хозяйственными делами. Это не совсем так. По крайней мере одно такое воспоминание отыщется в памяти.
В один день – дело было весной, снег уже стаял – она затеяла вымыть окна. Пятый этаж старинного доходного дома был высок, она не боялась высоты. Стоя прямо на подоконнике, под которым кипела жизнь центральной улицы городка, она натирала стекла. Груда тряпок, сухих и мокрых, лежала под ее ногами. Я метался по квартире, чувствуя, что в любом из углов меня настигает ее присутствие. Она отстраненно терла стекла, не обращая на меня внимания, и все же мешала мне больше, чем когда-либо.
Устав бороться с этим присутствием, я оделся, намереваясь сходить к одному из немногих оставшихся у меня приятелей. Прихожая располагалась как раз напротив гостиной, где она мыла окна. Двери был распахнуты. Заметив мои сборы, она прекратила возиться с тряпкой и стала в открытом окне спиной к улице. Против света мне был виден лишь ее силуэт.
Она спросила:
– Ты уходишь?
В ее тоне не было подозрительности, не слышалось обвинений. Но я сорвался. Я крикнул, что – да, ухожу, и не ее дело, куда и к кому, и что я пока еще сам себе хозяин – и пр. Моя совесть была чиста – я шел не к другой женщине, я шел по своим мужским делам, а она своим якобы невинным вопросом выразила недоверие, посмела заподозрить меня в чем-то преступном… Так я себя распалял довольно долго.
Она молчала, стоя на подоконнике спиной к улице. Потом вдруг, жестом прервав поток моей брани, сделала шаг назад. Теперь она стояла на самом краешке. Ничего не стоило упасть. Она оглянулась назад, оценила шансы.
– Если я сейчас упаду… тебе будет жаль?
Я перестал орать. Ладони мгновенно вспотели. Я посоветовал ей слезть с подоконника и не строить из себя истеричку. Я даже двинулся к ней, но она инстинктивно отстранилась, покачнувшись над улицей. Я замер. Она стояла, держась руками за створки, точно распятая. Я повернулся и вышел, не преминув хлопнуть дверью.
Спускаясь по лестнице, я прожил целую жизнь.
Я слишком громко хлопнул дверью – от такого звука человек вздрагивает.
Она, в сущности, не сказала мне ничего, что заслуживало бы столь отвратительной реакции с моей стороны.
Вздрогнув, так легко потерять равновесие.
Я разлюбил ее, вот в чем дело. Если вообще любил когда-то. Не моя в этом вина. Разве не честнее расстаться, чем тянуть еще долгие годы опостылевшую связь?
Ее опора слишком ненадежна – достаточно на долю секунды потерять равновесие, чтобы сорваться.
Может, она все еще любит меня? Может, этим, и ничем иным, объясняется ее кротость, потворство моим капризам, готовность отказаться от собственного «я» в угоду чужому?
Если она упадет – как я переживу это?
Я любил ее, любил, как умел и сколько мог. Я несчастен, но не имею сил положить этому конец. Не хватает духа освободиться.
Если она упадет – стану ли я свободным?
Или чувство вины будет мучить меня всю жизнь?
Я выскочил из подъезда и помчался на улицу. Там, куда выходили окна, мирно шли люди, ехали машины. Ничего не произошло.
Я задрал голову. Одно из окон было распахнуто. В нем никого не было. Если вам когда-то удастся почувствовать одновременно облегчение и сожаление – вы меня поймете.
Приятеля не оказалось дома. Я бродил по городу часа три. Выбившись из сил, вернулся домой. Там никого не было.
Я представлял, что она вот так же мечется по улицам, не зная, куда себя деть и кому излить свои несчастья. Я устал, меня заморочил весенний ветер, и вскоре я уснул на диване перед включенным телевизором.
Проснулся среди ночи – ее не было. Меня осенило проверить, на месте ли ее вещи. Вещи были на месте, за исключением маленькой сумочки, которую она всегда брала с собой. Деньги, выданные на хозяйство и личные расходы, лежали на месте – в верхнем ящике дедова буфета.
Я не представлял, куда она могла отправиться одна на всю ночь. Часы показывали четверть пятого утра – бары были закрыты, да и не в ее привычках было сидеть одной в окружении пьяных людей. Представить же ее с кем-либо я не мог – не было у нее подруг, не могло быть любовника. Уснуть так и не удалось, и утром я отправился на службу совершенно разбитый.
Я звонил домой несколько раз за день – трубку никто не брал. Вернувшись чуть раньше обычного, я не заметил в квартире никаких перемен. Я обзвонил всех наших общих знакомых – разумеется, никто ничего не знал.