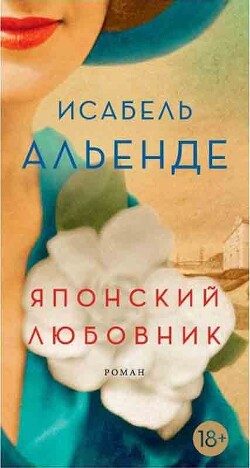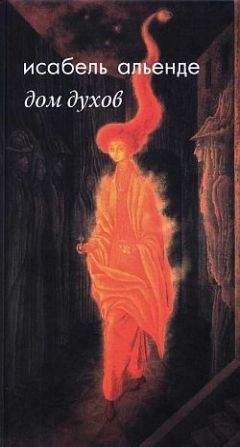Наступила весна, и заключенные со страхом ждали лета, которое превратит лагерь в настоящий ад с нестерпимой жарой в дневные часы, как вдруг ситуация Виктора Далмау неожиданным образом переменилась. У начальника лагеря случился сердечный приступ; это произошло утром, прямо посреди пламенной речи, с которой он обращался к узникам, а они терпеливо слушали, выстроившись перед ним в одних трусах и босиком. Он упал на колени, с трудом выдохнул и в ту же секунду растянулся на земле, даже стоявшие рядом с ним солдаты не успели поддержать своего командира. Никто из заключенных не пошевелился и не издал ни звука. Виктор наблюдал эту сцену, словно в замедленной съемке, все происходило беззвучно, как бы в другом измерении, будто часть кошмарного сна. Он увидел, как два солдата пытаются поднять начальника, еще несколько солдат бросились к медпункту, и тогда, не думая о последствиях, словно сомнамбула, Виктор начал продвигаться сквозь строй. Всеобщее внимание оказалось прикованным к лежавшему на земле, так что, когда Виктора заметили и приказали ему остановиться и лечь на землю лицом вниз, он находился уже перед строем. «Он врач!» — крикнул кто-то из заключенных. Виктор опрометью бросился вперед — и через пару секунд беспрепятственно добрался до места, где, не приходя в себя, лежал начальник лагеря.
Солдаты расступились, освобождая для Виктора пространство. Склонившись над потерявшим сознание начальником, Виктор убедился, что тот не дышит. Жестом он подозвал одного из ближайших охранников и показал ему, что нужно расстегнуть мундир пострадавшего, а сам начал делать искусственное дыхание рот в рот, с силой нажимая в перерывах на грудную клетку начальника лагеря обеими руками. Он знал, в медпункте имеется ручной дефибриллятор, который иногда использовали, чтобы привести в чувство людей после пыток. Через несколько минут на плац прибежал медбрат и его помощник, с кислородом и дефибриллятором, и оба стали помогать Виктору.
— Вертолет! Его немедленно нужно в больницу! — потребовал Виктор, едва почувствовал, что сердце начало биться.
Мужчину отнесли в медпункт, где Виктор поддерживал его жизнь, пока не прибыл вертолет, который на всякий случай всегда находился в режиме ожидания. До ближайшей больницы летели тридцать пять минут. Виктору приказали, чтобы он остался с больным, и выдали ему рубашку, брюки и армейские ботинки.
Это была провинциальная больница, маленькая, но неплохо оборудованная, которая в обычные времена располагала средствами для оказания срочной помощи, как, например, в данном случае. В штате больницы числилось всего два врача. Оба были наслышаны о репутации доктора Виктора Далмау, так что отнеслись к нему с почтением. От них он и узнал, что, по иронии того времени, главный хирург и кардиолог больницы тоже арестованы. Куда бы их ни увезли, одно было ясно: в том лагере, где содержали его самого, Виктор их не встречал. Он проработал хирургом не один десяток лет и часто говорил своим ученикам, что сердце, представляющее собой мускульный мешок, не содержит в себе никаких тайн; те же, что люди ему приписывают, являются обычными выдумками. Как можно быстрее Виктор проинструктировал врачей, которые должны были ему ассистировать, тщательно вымыл руки, приготовил пациента к операции и осуществил вскрытие грудной клетки, как делал это сотни раз. Он убедился, что его руки ничего не забыли и действуют безошибочно.
Ночь Виктор провел рядом с пациентом, отдыхая скорее душой, чем телом. В больнице отсутствовали вооруженные охранники, с ним обращались почтительно и выражали ему восхищение, а в обед накормили бифштексом с картофелем с бокалом красного вина и мороженым — на десерт. На несколько часов он снова стал Виктором Далмау, а не номером таким-то. Он успел позабыть, какой была его жизнь до ареста. Ближе к полудню, когда пациент Виктора все еще находился в тяжелом, но стабильном состоянии, из Сантьяго прилетел военный кардиолог. Относительно заключенного поступил приказ отправить его обратно в лагерь, но Виктору удалось упросить врача, помогавшего ему на операции, связаться с Росер. Он рисковал, поскольку этот человек принадлежал к правым, однако за эти несколько часов совместной работы стало очевидно, что они испытывают друг к другу взаимное уважение. Виктор не сомневался, что Росер вернулась в Чили и ищет его, потому что он в подобных обстоятельствах сделал бы то же самое по отношению к ней.
Новый начальник лагеря оказался так же расположен к жестокости, как и предыдущий, но Виктору пришлось терпеть его только пять дней. В то утро его имя прозвучало при зачитывании списка заключенных, которых отправляли в другие места. Для тех, чьи имена оказались названными, это был самый плохой день, поскольку означал, что узников отправляют либо в центр пыток, либо в другой, худший лагерь, либо на смерть. После того как они простояли на плацу три часа в ожидании машины, их посадили в грузовик. Охранник, сверявший забиравшихся в кузов заключенных со списком, задержал Виктора, прежде чем тот забрался в машину вместе с остальными.
— А ты, идиот, остаешься тут.
После еще часового ожидания Виктора отвели в контору, где начальник лагеря лично заявил, как тому повезло, и протянул ему листок бумаги. Виктор получил условное освобождение.
— Как по мне, я бы открыл ворота — и шагай себе пешком, коммунист хренов. Но я, видите ли, должен доставить тебя обратно в больницу, — возмущенно произнес он.
Росер и чиновник из посольства Венесуэлы ждали Виктора в больнице. Он обнял жену, и в этом объятии было все накопившееся отчаяние минувших месяцев, вся неопределенность ожидания и вся его любовь, которую он никогда не высказывал Росер на словах.
— Боже мой, как же я люблю тебя, как же мне тебя не хватало, — шептал он, уткнувшись лицом в волосы жены. Оба плакали.
Условное освобождение означало, что он ежедневно должен был приходить в полицейский участок и отмечаться в журнале. Это могло занять несколько часов, в зависимости от настроения дежурного офицера. Он отметился два раза, после чего принял решение просить политического убежища в посольстве Венесуэлы. Понадобилось всего пару дней, чтобы понять, — он, будучи пленником, подвергается остракизму; он не мог вернуться работать в больницу, друзья его избегали, и в любой момент его снова могли арестовать. Тревожное ожидание и страх, в котором он жил, резко контрастировали с вызывающим оптимизмом и реваншизмом сторонников диктатуры. Протестов не было; побежденные рабочие потеряли свои права, их могли уволить в любую минуту, и они были благодарны за любую зарплату, поскольку за дверью стояла очередь из безработных в ожидании счастливой возможности. Это был рай для предпринимателей. По официальной версии, в стране царил порядок, чистота, примирение и наметился путь к процветанию. А он думал о тех, кого пытают, казнят, вспоминал лица людей, которых видел в заключении, и тех, кто бесследно исчез. Люди изменились, он с трудом узнавал страну, которая тридцать пять лет назад приняла его в свои широкие объятия и которую он любил как родную.
На второй день он объявил Росер, что не сможет терпеть диктатуру.
— Я не мог этого в Испании, не смогу и здесь. Мне слишком много лет, чтобы все время жить в страхе, Росер; но возвращаться обратно немыслимо, так же как оставаться в Чили.
Она сослалась на то, что это временные меры, военный режим скоро закончится, Чили отличают устойчивые традиции демократии, — во всяком случае, так говорили. Все вернется на круги своя. Однако ее аргументы бледнели перед очевидностью; Франко был у власти более тридцати лет, и Пиночет может последовать его примеру. Виктор провел ночь без сна, обдумывая отъезд, он лежал в темноте рядом с Росер, съежившейся в комок, и прислушивался к звукам ночи на улице. В три часа ночи он услышал, как к дому подъехала машина. Это означало, что приехали за ним; во время комендантского часа ездили на машинах только военные и агенты национальной безопасности. И думать нечего, чтоб сбежать или спрятаться. Он лежал неподвижно, в холодном поту, сердце в груди бешено колотилось, словно барабан. Росер осторожно выглянула из-за занавески и увидела еще один черный автомобиль, остановившийся рядом с первым.