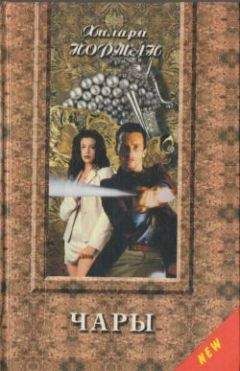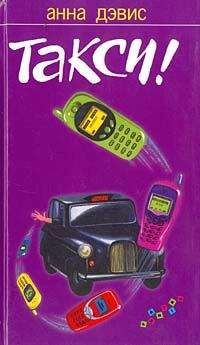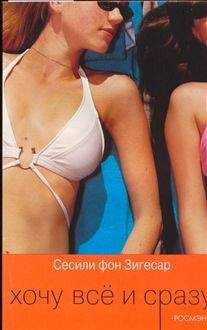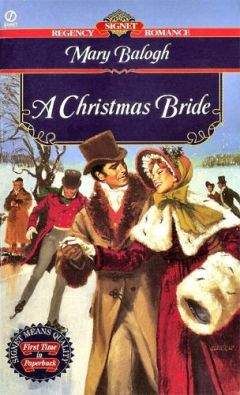Штрассер сбрил волосы и стал заново лепить себя – он заставлял себя есть простую здоровую пищу, даже когда у него совсем не было аппетита, а еще он подружился с менеджером гимнастического зала, где тренировались боксеры. Гастон сделал себя сильным и непривлекательным. Никто не любил и не понимал его – но зато никто и не смел ему угрожать. Его мечты о карьере тенора развеялись, как дым, и теперь он выглядел скорее как укротитель львов из цирка, чем как оперный певец. Понимая свою новую роль и ограничения, которые она накладывала на него, Штрассер брался за ряд работ, которые вовсе не соответствовали его характеру и требовали физической силы: он был то телохранителем, то вышибалой в ночном клубе, то ночным сторожем. Поначалу у него было чувство небольшого удовлетворения от того, что он достиг своей цели, но это чувство вскоре исчезло, и у Гастона началась новая депрессия, продолжавшаяся до 1951-го года – когда он встретил Антуана.
– А где вы познакомились? – спросила Мадлен.
– В Люксембургском саду.
– Наверно, ты был в плохом настроении, – сказала Мадлен, вспомнив, что он ей говорил в саду Тюильри.
– По-моему, я пытался сочинять, а ничего не выходило.
Он замолчал, вспоминая.
– Гастон сидел на траве под деревом, глядя на маленьких детишек в театре Гиньоль. Только он не смеялся, а плакал. Я сидел рядом с ним, и мы разговорились.
– И ты взял его певцом во Флеретт? Антуан пожал плечами.
– У него был – да и сейчас есть – прекрасный голос, а Сен-Жермен привык к колоритным личностям.
Между тем, искусственно созданное уродство Штрассера обернулось в ресторане против него, и дела пошли плохо. Венец предложил уволить его, но Антуан не позволил ему сдаться. Это была его идея, чтобы Гастон начал учительствовать, но Антуан поставил условие – пока ему не удастся найти платежеспособных учеников, он должен продолжать петь во Флеретт.
– Посетители вскоре снова зачастили в ресторан – они знали, что всегда найдут там прекрасную кухню и обслуживание было, как всегда, отличное. Да потом, по мере того, как росла уверенность в себе Гастона, он научился делать свою внешность более респектабельной. Он принял вид и тон некоей насмешливой свирепости, которая стала частью его имиджа. Публика даже была в восторге.
– Так вот почему он не взял денег, – сказала Мадлен. – Он сказал мне, что обязан тебе. Я решила, что это денежный долг – но это гораздо больше.
– Да нет, это все пустяки – просто шанс. У Гастона есть мужество.
– Конечно, – согласилась Мадлен, но думала она уже совсем о другом. Она испытывала трепет – даже еще больший, чем перед конфирмацией. Она полюбила этого щедрого, доброго человека. Если б только ей не надо было заходить внутрь, думала Мадлен, когда они приближались к дому Люссаков. Если б только эта ночь никогда не кончалась.
Они остановились.
– Что будет завтра! – подмигнул он, глядя вниз на нее. – Ты будешь такой замечательной горничной, какой не была еще никогда.
Он взял ее лицо в свои ладони.
– Вот увидишь, сначала ты что-нибудь расколотишь, а потом у тебя подгорит их завтрак.
– Я не готовлю – мне не дает мадам Блондо.
– Мудрая женщина, – с улыбкой заметил Антуан.
– Но я могла бы хорошо готовить.
– Очень может быть.
Мадлен посмотрела на него сонным взглядом.
– Мое лицо в твоих ладонях… Почему?
Его голубые глаза цвета моря были темными и глубокими.
– Жду.
Мадлен почувствовала, как по ее телу прошла дрожь.
– Нашего первого поцелуя.
Он помолчал.
– Можно?
Она кивнула, не в силах сказать ничего.
Он наклонился. Она почувствовала, как его губы, прохладные, мягкие и упругие, коснулись ее губ с такой нежностью, что на глазах у нее навернулись слезы. О-о, это было самое прекрасное ощущение на свете – она закрыла глаза и ответила на поцелуй, и его губы раскрылись; его рот был таким теплым и живым, и на какое-то мгновение их языки соприкоснулись легко, как ласка птичьего пера, и она стала слабеть, слабеть от счастья…
А потом он отстранился.
– И все это – лишь в одном поцелуе, – едва слышно проговорила она.
Антуан улыбнулся – его зубы блеснули белизной в темноте.
– И даже больше, – сказал он нежно и отнял руки от лица, а потом взял ее руку в свою и открыл ворота.
Наверху, у входной двери, он шепнул ей:
– Скажи им, что это я виноват в твоем опоздании – скажи им, что больше такого не случится… просто нам нужно столько времени, чтобы лучше узнать друг друга, чтобы быть вместе.
– Но как же нам быть? – неожиданно Мадлен встревожилась. – Ведь иногда ресторан не закрывается до двух? Как же нам быть?
– Net'en fas pas, chérie, – успокоил он ее. – У нас будет еще много времени, не волнуйся. Это ведь наш первый вечер – не последний.
– Наш первый поцелуй.
Выражение лица Антуана было радостным и решительным.
– И это только начало, – сказал он.
– Расслабьтесь.
– Я уже расслабилась.
– Да, как натянутая струна – да не волнуйтесь так.
– Но я волнуюсь из-за вас.
– Давайте начнем снова. Наклонитесь – направо. От талии. Теперь уроните голову, пусть все расслабится – как у тряпичной куклы. Теперь начинайте медленно – очень медленно – выпрямляться, спина, т-а-ак, голова – последняя. Теперь расслабьте плечи, встряхните ими легко – чтобы грудь тоже встряхнулась – так, хорошо, хорошо… А теперь дышите часто, как собака – не нужно так сосредотачиваться, просто дышите.
Мадлен сделала то, что ей велели.
– Теперь запомните, что поддержка должна идти из диафрагмы. Пусть ваше горло будет открытым – нужно достаточно пространства, чтобы выходил звук, без всякого усилия. И начинайте опять – ля ля ля…
Гастон вернулся к роялю, и начал опять – и так до бесконечности, все играя и играя гаммы. Мадлен чувствовала себя словно во власти какой-то безумной армейской муштры, но повиновалась, ненавидя каждую минуту занятий.
– Ля ля ля ля-я-я ля ля ля.
– А теперь ми-и ми-и ми-и…
И опять все по новой.
– Это ужасно, – говорила она Андрэ и Элен. – Я просто хочу петь, но мсье Штрассер заставляет меня повторять гаммы, опять и опять – пока мне просто уже хочется кричать.
– Но разве всем певцам не нужно распевать гаммы? – спросила Элен.
– Да, конечно, но не все же время, да еще и одни только гаммы!
– А что, он не дает тебе петь ничего, кроме гамм? – удивилась Андрэ.
– Ничегошеньки. Он заставляет меня делать упражнения на дыхание. Самое забавное – это когда он зажигает свечу и подносит ее к моему лицу.
– А это еще зачем?
– Чтоб быть уверенным, что я ее не задую.
– А как же тогда тебе дышать?
– Да пламя даже не должно колебаться! Ну, конечно, у меня оно мечется, как бешеное, а потом гаснет, и тогда мсье Штрассер или кричит, или, наоборот, становится очень-очень спокойным, что еще хуже.