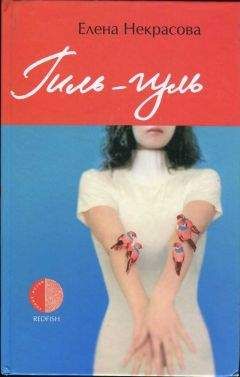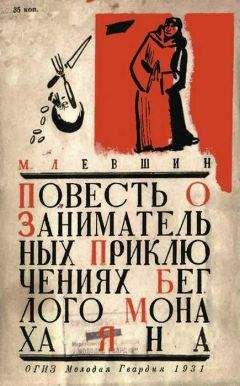— Хм, да нет, не стоит… похож на вас, прямо одно лицо… Так. Я сожалею, Сяо Лао, но вам придется отменить сегодняшний спектакль… у нас тут намечается совсем другой спектакль, называется следственный эксперимент. Когда он даст показания, надо будет на месте воссоздать всю картину, с чего началось, кто где стоял, ну, вы понимаете…
— А театр все равно не работает! Мы обновляем репертуар, чтоб не плестись, так сказать, в хвосте революционного времени.
— Прекрасно… А сейчас вы с внучкой расскажете нам, как было дело… вернее, то, что вы видели, и составим протокол… О! А вот и советские товарищи…
* * *
Что же все-таки общего между мной и той женщиной? Если мы с ней — один человек, хочется разобраться. Вернее, если мы одна и та же душа. Или это не я? Вдруг чужая душа пыталась до меня достучаться, что-то сообщить… не знаю. Мне кажется, что в своей нынешней жизни я никогда не испытывала таких сильных чувств и волнений, такого эмоционального накала, как там. Одни эпизоды со стариком-актером и потерянным возлюбленным чего стоят! А тут что? Что было в моей жизни? Детство и школа в Москве — ничего особенного, отъезд в Израиль, даже служба в армии (казалось бы!), учеба, личная жизнь… все нормально и в рамках. В детстве, еще до школы, у меня были садистские замашки, но, говорят, что они бывают у многих детей. Я любила мучить насекомых — оборудовала для них «концлагеря». Бабушка рассказала мне, как во время войны фашисты издевались над людьми, загоняли их в лагеря. Она, разумеется, рассчитывала на другой, воспитательный эффект — на сострадание к невинным жертвам и т. п. А я прямо-таки загорелась этой идеей и за лето превратила весь дачный участок (мы снимали дачу в подмосковной Опалихе) в концлагерь для насекомых: всевозможных жуков, по большей части колорадских — их добывать было проще всего, — бабочек, стрекоз, гусениц, червяков… Там были у меня и пыточные камеры, и крематорий, и бассейн, где я их топила, и «бараки» — коробки с сеткой, где бедные насекомые ожидали своей очереди. Я даже ухитрилась изготовить подобие колючей проволоки. Бабушка была в шоке. Еще я бы с удовольствием поместила в свой концлагерь змей, но где было взять? Маленьких лягушек я ловила сачком и протыкала острой палочкой, а когда они умирали, относила на железнодорожные пути и аккуратно раскладывала их тельца на рельсах. Пригородные электрички ходили часто, так что ждала я недолго — после того, как поезд всей своей массой проносился по моим заготовкам, я их забирала. Они так и оставались лежать на рельсине и были прекрасны — плоские и совершенно сухие, уже не подверженные разложению лягушечки, будто вырезанные из необычной бумаги силуэты. Я вешала их в своей комнате, на общую леску. А вот котят-собачек и вообще все теплое или пушистое я любила и никогда бы не причинила им вреда. Эта страсть к убийству насекомых продолжалась у меня два сезона, потом все прошло…
Конечно, были в моей жизни разные переживания и неприятности, да и мама… но вот именно — как раздражители, как досадные помехи. Я, например, не переживала безответную любовь, никогда не сходила с ума из-за мужчины, не рыдала ночами в подушку. Вероника чуть с собой не покончила из-за несчастной любви, в семнадцать лет, правда… а мне бы и в семнадцать такое в голову не пришло. Зато я сочиняла стихи про любовь, про смерть и все такое, придумывала себе героя, но никого реально не любила. Кого было любить? Сопливых одноклассников? Или поэтов из литкружка? Тупые качки тоже не привлекали. Даже смерть Максима не стала для меня трагедией. И детей я по-прежнему не хочу, а после того, что со мной случилось, тем более. Что я скажу своим детям? Что я ничего не знаю про этот мир, в который их родила? Вообще ничего. А родители должны воспитывать, сообщать, что хорошо, что плохо. Понятно, что нельзя сунуть руку в кипяток и не обвариться (хотя йоги и это опровергают). Плохо убивать и грабить людей. А война? Значит, дети сами должны разобраться, как жить, и родить их — просто пополнить процесс размножения людей… Но почему я должна это делать? К счастью, нет пока такого закона. Может, когда-нибудь он и будет — обязаловка, как в армию. А сейчас так не принято, детей надо хотеть, любить и «ставить на ноги» добровольно. Однажды я сказала в компании, уже не помню, как зашел разговор, что не хочу иметь детей. Так одна мамаша мне так прямо и заявила: «Это очень плохо, как же так можно думать?!» Вот это, пожалуй, меня больше всего в жизни и бесит — когда какая-нибудь клуша (любого пола) хорошо знает, что такое хорошо и плохо. Ну, знали бы для себя, так нет. Мне кажется, что та «другая я» имела похожее мироощущение. А все эти сильные эмоции и слезы (самые мои бессвязные и невнятные воспоминания) на самом деле были ей несвойственны. Скорее всего, их вызвали какие-то внешние обстоятельства, которые потому и не запомнились, что душа в тот момент утратила свое привычное равновесие.
Я вдруг подумала — если в юности мне не довелось испытать «половодья чувств» и совершить безумные поступки, то дальше ведь тем более… Так считается, да я и сама чувствую. В юности еще различные комплексы, неуверенность в себе дают пищу для переживаний… а теперь и с этим как-то утряслось. Вот теперь я люблю Мишу и думаю, что это надолго… а может быть, навсегда? Мы говорим на одном языке, это так редко бывает, да еще с мужчиной. С Максом… нет, со всеми было не так. Наверное, с Мишей у нас родство душ, без Миши я уже не могу, даже не представляю, что мы могли не встретиться… Но кто из нас любит сильнее? Нет, не то слово… эмоциональнее… Наверное, все-таки он.
* * *
Половина двенадцатого, наверняка все уже собрались… надо побыстрее… А он ждет ее у Торгового центра. Неужели два часа простоит? С него станется… будет нервничать, переживать, но в театр не пойдет… да, пояс тут лишний…
В дверь деликатно постучали.
— Иду-иду! Я уже спускаюсь!
Ну вот, дождалась, ее уже торопят, совсем закопалась… Опять?! Что за наглость, ну ладно…
— Сейчас открою, секунду!
Котов и Денисенко.
— Вы чего это, товарищи? Договорились вроде без четверти…
— А… понимаете… В общем… всех просили собраться в красном уголке, я не хочу вас пугать, сам пока ничего не понял… — Котов перешел на шепот, — но они обыскивают его комнату.
— Чью комнату?!
— Тише… Алексея. Что-то случилось… мы не знаем.
— Что… что?!
Губы у Котова пересохли, он их облизывает… на Цзефандадао лежит окровавленный труп, прямо посреди улицы… труп вылавливают из Янцзы, мокрый труп… длинный Денисенко стоит с печальным видом, еще и вздыхает… Ольга лежит… в темном пятне… седые волосы нежно шевелит ветерок… У Котова губы всегда бесцветные… как у мамы, когда я зашла в комнату и хотела… а она уже… боже, ну конечно! Он покончил с собой, это я виновата…