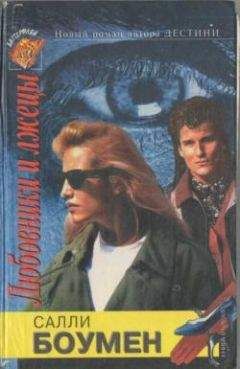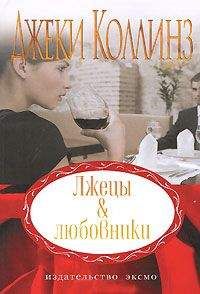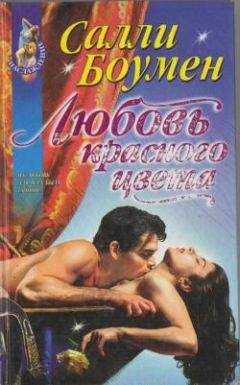– Часы?
– О, да. Весьма ценные, – неопределенно дернул он плечом. – В длинном футляре. Антикварная вещь. Говорят, эти часы принадлежали Томасу Джефферсону.[11] Завода хватало ровно на неделю. Знаете, все эти рычажки, блоки, гирьки… Каждое воскресенье мы с отцом заводили их. Это была особая церемония. Мой отец просто обожал всевозможные церемонии и ритуалы. Думаю, для него они и сейчас имеют немалое значение.
Тон Хоторна стал более резким.
– Этой истории вы не найдете в газетных вырезках. Я всегда хранил ее при себе. Знаете, почему он подарил мне эти часы? Чтобы научить меня понимать время. Он хотел, чтобы я видел, сколь оно быстротечно, чтобы мог чувствовать его бег в движении зубчатых колес, маятников, гирек и противовесов. Даря мне эти часы, он торжественно изрек: «Через сорок лет, Джон, ты станешь президентом своей страны…» И еще он сказал, что для ребенка сорок лет – срок немыслимый. Слишком долго ждать. И каждый раз, заводя часы, я должен был вспоминать об этом сроке. Сорок лет – две тысячи восемьдесят недель…
Он вновь замолчал, устремив взгляд в никуда, как если бы отправился путешествовать в прошлое, оставив ее одну в настоящем.
– Две тысячи восемьдесят недель… – эхом откликнулась Джини. – Получается уйма времени.
– Не так уж много, – вздрогнул Хоторн, вернувшись к реальности. – Сейчас идет две тысячи семьдесят девятая. – Его улыбка стала напряженной. – Отстаю от графика. На что мне уже было строго указано отцом.
Его голос стал еще печальнее. Джини молчала, боясь нарушить ход беседы, которая неожиданно приняла оттенок исповеди. Однако Хоторн не проявил желания развить эту тему, и, желая вызвать его на откровенность, она решилась на осторожный шаг.
– Но вы ведь, кажется, намерены наверстать упущенное? Во всяком случае, так утверждают некоторые…
– Возможно. Я знаю, что мог бы попытаться. Мой отец желал бы этого. – Он на секунду прервал разговор и взглянул на нее.
– Вы, наверное, очень удивились бы, если бы я сейчас сказал вам, что отказался от всего: от грандиозных планов, от честолюбивых устремлений. А ведь я в самом деле едва не отказался – четыре года назад, когда заболел мой сын. Решил – и ушел из сената. Были, конечно, и сопутствующие обстоятельства, в том числе плачевное состояние моей семейной жизни, но не это главное. Ночь, когда мой сын едва не умер, ночь кризиса, я провел в одиночестве, один, около его больничной кровати. – На лице Хоторна появилась вымученная улыбка – Я молился, и тогда это было вполне естественно, хотя в душе моей почти не осталось веры. Я заново увидел самого себя, всю мою прошлую жизнь. В конце концов, примерно в три часа утра, я заключил с Господом сделку.
Хоторн опять повел плечом.
– Наверное, многие поступают так в подобных случаях. В ту ночь это казалось мне единственно возможным выходом. Оглядываясь на прожитое, я увидел многое, что было достойно презрения, и очень мало того, чем можно было бы гордиться. Вот я и пошел на сделку. Пусть мой сын поправится, а я откажусь от остального. От власти и славы, от лицемерия и суеты… – Он снова замер в молчании. – Господь оказался верным своему обязательству. Он выполнил свою часть сделки. Мой сын выздоровел, и на той же неделе я покинул сенат. – Хоторн посмотрел ей в глаза. – Вы и этой истории не раскопаете в газетных досье. Тем не менее это чистая правда.
Хоторн говорил с ней напряженным, почти резким тоном, который совершенно не вязался с теми поступками, которые он описывал. Джини едва не пожалела его.
– Но в таком случае, – мягко заговорила она, – вы и сейчас должны чувствовать себя связанным словом? Если, конечно, будучи католиком до мозга костей, вы в самом деле дали такой обет…
– Наверное. Правда, сейчас я смотрю на это несколько по-иному. – Ответ прозвучал чрезмерно резко. Поколебавшись, Хоторн заговорил спокойнее и мягче: – Не могу же я жить до скончания века под гнетом предрассудка. А иначе, как предрассудком, мою религию не назовешь. Где вера? Говорю вам: ее больше нет в моей душе. Мне нужно подумать и об отце. Полжизни он связывал со мной свои амбициозные планы. Он стар, ему осталось не так уж много дней на нашей грешной земле. А мне так хотелось бы сделать ему последний подарок. – На губах Хоторна мелькнула мимолетная улыбка – К тому же я человек не без способностей. И мне во многом недостает моей прежней жизни. Я скучаю по этой сумасшедшей жизни, которая называется политикой. Скучаю по той единственной ясной цели, которая манила бы меня. Ведь почти всю мою жизнь эта единственная цель светила мне, как путеводная звезда.
– Значит, вы вернетесь в мир большой политики? Вы все еще не оставили надежду стать президентом?
– Нет, не оставил. И, как вы можете догадаться, мой отец тоже.
– И у вас действительно разработан график? Хоторн широко улыбнулся.
– Конечно. Причем весьма реалистичный. И гибкий. Сорок лет, или две тысячи восемьдесят недель, не распишешь по минутам. Приходится делать поправки: отчасти на состояние здоровья Лиз, отчасти на нынешнего президента и то, насколько успешно он действует на своем посту. Ну и еще кое-какие мелочи…
Обнаружив внезапное беспокойство, Хоторн резко поднялся на ноги и принялся вышагивать взад-вперед по комнате. Джини молча следовала за ним взглядом. Вдруг он остановился, быстро повернулся кругом и впился в нее взглядом.
– Честное слово, я пытался, – взволнованно произнес Хоторн. – Одному Богу известно, каких усилий мне стоили попытки заново построить свою жизнь. Однако повестка дня была определена заранее. Понимаете? Еще до того дня, когда я появился на свет. Ступенька за ступенькой – к вершине.
Таков неумолимый закон нашего семейства. Для меня уже недостаточно было стать просто сенатором. Сенатором был мой дед. Сенатором стал мой отец. Мне необходимо было перешагнуть этот рубеж. Без этой цели вся моя жизнь становилась пустой и бессмысленной. Вы способны это понять? Четыре года я существовал без жизненной цели, а теперь – все, хватит. Да, у меня есть сыновья. Но что еще, кроме них, может послужить мне отрадой? Отнимите у меня честолюбие, и вы оставите меня ни с чем.
Хоторн раздраженно оборвал тираду. Джини попыталась что-то сказать, но он не дал ей произнести ни слова.
– Знаю, что вы скажете. Слава? Без власти это ничто. Деньги? Да у меня их при рождении было больше, чем может пожелать себе любой смертный. Веры у меня нет – вы уже знаете. Что остается? Только не напоминайте мне о моем браке. Вас не так легко провести, как Мэри или Сэма. Думаю, это не ускользнуло от вашего внимания. Мой брак мертв. Он мертв по меньшей мере уже девять лет из тех десяти, что прошли с момента моей свадьбы.