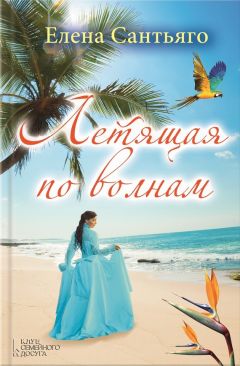— Они соберут то, что необходимо Макловио, чтобы его не убили те, кто ждет его в Нью-Йорке, и затем сожгут плантации, — сказала Мелисандра с закрытыми глазами, устало надавив пальцами на пространство между бровями.
Двумя днями позже они оставили позади Тимбу, матерей-голландок с их маленьким Гансом, Макловио, организующего сбор последнего урожая, чтобы расплатиться им за свои долги и спастись, семей, с которыми они подружились.
Были еще люди, смотревшие на них обнадеженными выжидающими взглядами, руки, протягивавшие им маленькие дары для их долгого путешествия: хлеб, сыр, сладости, карты, ценные указания, кукурузную муку для попугая, отвергавшего фрукты с обиженным видом.
Через плантации филины блестящего зеленого цвета они выехали на гравийную дорогу, ведущую в горы. Глядя на сверкающие посадки, колыхаемые ветром, она спросила Рафаэля:
— Что будешь делать? Нет никакого смысла посылать теперь твой репортаж: когда прилетят самолеты, поля уже будут сожжены.
Он еще не знает, будет ли отправлять репортаж, ответил Рафаэль. Он еще думает. У него еще есть время на это. Он решит, когда они вернутся из Васлалы.
— А когда ты собираешься возвращаться в свою страну? — спросила она.
Он предложит своему редактору репортаж о Фагуасе, сказал он. Таким образом, он задержится еще на какое-то время.
— Может, ты уже заразился Фагуасом? И никогда больше не вернешься, — улыбнулась она, — потому что я сильно сомневаюсь, нужен ли им этот репортаж. Кому интересно, что здесь происходит?
Ему это интересно, ответил Рафаэль. Он стал журналистом не только для того, что провести всю свою жизнь, докапываясь до темных мотивов насилия.
— Какой парадокс! — пустилась она в философствования. — В какой-то момент вдруг понимаешь, что прогресс, развитие, цивилизация не помогает найти ответы, а наоборот, создает только больше вопросов. Это, как если представить, что мир — это маленькое поле в игре, такой, когда попадаешь в лабиринт с черными дорожками и наталкиваешься на горизонтальные перегородки, блокирующие выход, и нужно отступать, возвращаться и пробовать снова; только вот, оказавшись в определенной точке, вернуться уже невозможно. Надо начинать игру с нуля. Дело в войнах? Или нужно разрушить все, чтобы начать с чистого листа? Возможно, такие места, как Фагуас, почти не тронутые цивилизацией, сохранили некую невинность, из-за которой постоянно начинают с нуля…
— Это палка о двух концах, — сказал он. — Какая невинность у них оставалась? Тебе еще предстоит убедиться, насколько сложно окажется искоренить их дурные привычки, лицемерие, разного рода уловки, которым народ выучился, чтобы выжить посреди всей этой анархии и нищеты. Невежество — это не то же самое, что наивность. Чаще всего отчаяние из-за нищеты приводит к двуличию, а не к порядочности. Когда народ привыкает жить, не следуя никаким правилам, сложно навязать ему порядок. Я знаю это не понаслышке, а имел за плечами опыт общения с уличными бандами. Когда не было возможности вести комфортную стабильную жизнь, солдатская жизнь для многих становилась лучшей альтернативой нищенству.
— Эспада воспользовались этим. За неимением власти реальной, они прибегали к властезаменителям, заменяли бессилие садизмом, — сказала она. — Я лично убедилась в этом в камере: связанная, с тряпкой на голове, и вдобавок к этому всемогущий солдат, склонившийся надо мной и заставлявший выслушивать грязные речи о насилии, а то, что оно было воображаемым, не делало его менее жестоким.
— Не говори мне об этом, — сказал Рафаэль, морщась. От бесполезного теперь гнева у него во рту появился неприятный привкус.
— Я не думала об этом до этого момента, — прошептала она, сложив руки на груди и дрожа всем телом.
За столь короткий срок был такой безудержный поток эмоций посреди этого хаоса, что они просто не успевали на них реагировать. Теперь они все разом обрушились на нее.
Рафаэль остановил машину, чтобы обнять ее, под огромных размеров деревом, ветви которого в сумерках, казалось, сплетались в кружево со звездами.
— Кричи, плачь, — настаивал он, прижимая к себе ее дрожащее от холода тело. Попугай, наблюдавший за этим своими косыми глазами, начал вдруг имитировать волчий вой. Этот небывалый звук, вытянувшаяся шея птицы заставили их рассмеяться. Они представили, что, возможно, Энграсия выла при нем на луну. Сквозь смех, вперемешку с плачем, который был скорее облегчением, чем свидетельством подавленного состояния, они обменялись заговорщицкими взглядами, вышли из джипа и, взявшись за руки, светлой и одинокой ночью завыли на луну. Сначала они делали это, чтобы стряхнуть с себя состояние трагизма, потом стали кричать все громче, во всю мощь своих легких, выплескивая в этих завываниях все свои обиды, дисгармонию, гнев, пока жалобный вой не превратился в вызов, звучное утверждение того, какими они были на самом деле: сильными живучими существами, сознательными в непредсказуемом мире.
После нескольких часов пути растительность стала более обильной, знаменуя тем самым, что они въехали в северную часть страны, лесистую и влажную. Гигантские стволы деревьев с огромными зубчатыми листьями и с тучей паразитов навеяли Мелисандре воспоминания о реке, только в этой реке вода не текла, а испарялась, образуя слои тумана, которые бродили точно безвольные призраки среди деревьев, когда дул ветер. Она почувствовала, что они оказались одни в первозданном мире, его одиночество нарушалось только пением птиц и появлением какой-нибудь заплутавшей коровы, которая-то появлялась, то исчезала в поисках хозяина.
Горы, теперь более близкие, демонстрировали свои острые профили, выглядывавшие из-за густых зарослей леса. Должно быть, Васлала там, подумала Мелисандра, между горами-близнецами, где все компасы точно с ума сходят и куда только попугай знает дорогу, если верны слова Морриса о том, что он, как живой компас, никогда не путает части света. Птица, сидя на спинке сиденья между ними, время от времени издавала то мужские, то женские звуки, похожие на голоса Энграсии и Морриса, только очень низкие. С того момента, как они выехали на дорогу, идущую между горами, он перестал молчать, вышел из траура осиротевшей птицы и, приходя в возбуждение, взъерошил перья и заговорил.
— Неужели он узнал? — спросила Мелисандра. — У него есть память?
— Скоро мы это узнаем, — ответил Рафаэль.
Они прибыли в Лас-Минас на следующий день, переночевав на заднем сиденье машины и проснувшись на рассвете оттого, что попугай поклевывал влажные волосы Мелисандры.
В городе не было мощеных улиц. Несмотря на то что город весь увяз в густой зелени, у него был вид пыльной деревушки посреди пустыни. Высотные вышки и металлические каркасы старых золотых рудников возвышались посреди гор, таивших месторождения. Оттуда приносило ветром светлый порошок, придававший этому месту вид выцветшей серой пустыни.