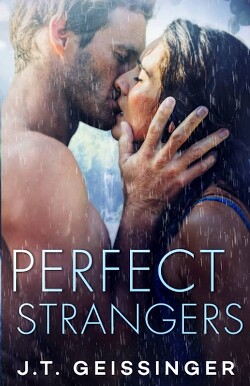class="p1">
— Сейчас же.
— Прошу прощения, но я не терьер. Ты не имеешь права выкрикивать приказы.
Отрывистая тирада Слоан заканчивается, когда я открываю дверь и тащу ее, полностью одетую, в душ.
Я прижимаю Слоан к стене, зажимаю ее запястья над головой и завладеваю ее ртом. Поцелуй жесткий и голодный.
Она так же голодна, как и я. Слоан целует меня в ответ, как будто это ее последние две минуты на земле.
Затем начинается безумная гонка за тем, чтобы раздеть ее. Ее шмотки наполовину мокрые и липнут к ее коже, но это нас не останавливает.
— Тампон?
— Нет, месячные закончились.
Я поднимаю Слоан и прижимаю спиной к стене. Она обхватывает ногами мою талию и опускается между нами, чтобы ввести меня внутрь.
— Черт, детка. Поторопись.
— Да, о… там….
Я протискиваюсь внутрь, издавая глубокий грудной стон, эхом отражающийся от кафельных стен. Слоан выгибается назад с тихим стоном. Ногтями впиваясь в мои плечи.
Я трахаю Слоан, прижимая к стенке душа, разбрызгивая воду во все стороны, пока она не вскрикивает.
— Боже, я близко. Я уже так близко, Деклан… о…
Ее киска конвульсивно сжимается вокруг моего члена. Такое ощущение, что меня доят кулаком.
Я целую Слоан, когда кончаю, языком проникая глубоко в нее, дотягиваясь до горла, а руки кладу под ее задницу, мои бедра горят, а сердце в огне.
Не имеет значения, если Слоан не скажет, что я любовь всей ее жизни. Не имеет значения, что она вообще никогда не скажет мне о своих чувствах.
Никакие слова не могут сравниться с этим.
Когда мы оба тяжело дышим и дергаемся, спускаясь с высоты, она опускает голову и прячет лицо у меня на плече.
Она шепчет:
— Возможно, ты на втором месте после Нат. Очень далеко. Придурок.
Моя грудь расширяется. Я начинаю смеяться, просто чтобы было куда выплеснуть все эмоции.
Выйдя из тела Слоан, я ставлю ее на ноги и беру лицо в свои ладони. Моим, хриплым от удовольствия голосом, я говорю:
— Достаточно хорошо.
Затем я целую Слоан, крепко прижимая к себе, преисполняясь радости, когда чувствую, как сильно бьется ее сердце у моей груди.
И оно бьется в том же темпе, что и мое.
Мы молча лежим вместе в постели, наблюдая за восходом солнца. Мы лежим на боку, Слоан спиной ко мне, моя рука у нее под шеей, ее голова покоится на моей подушке. Мои колени подтянуты к ее коленям сзади.
Однажды я заплатил триста тысяч долларов за наручные часы. Сейчас я вспоминаю это и улыбаюсь тому, как я думал, что кусок металла чего-то стоит.
Но у меня не было ничего по-настоящему ценного, с чем можно было бы это сравнить.
Теперь я знаю.
— Ты всегда носишь черное, потому что оно лучше всего скрывает пятна крови, — произносит Слоан.
Интересно, что стоит за этим вопросом о тренировочном цикле доверия, который она предложила несколько дней назад, перед моим отъездом. «Почему бы тебе не открыть мне один секрет, и мы начнем с этого. Например, почему ты всегда носишь черное».
— Ага.
— Раньше я поступала так же.
— Что ты имеешь в виду?
Она медленно вдыхает, затем выпускает воздух.
— Раньше я сама себя резала. Раны плохо заживали. Если бы я носила белое, повсюду были бы маленькие пятнышки крови. Я выглядела как жертва нападения.
Это ошеломляет меня.
— Ты? Резала себя? Почему?
— Боли нужен выход.
Я жду, зная, что будет еще что-то, не желая прерывать ход ее мысли до того, как она облечет ее в слова.
— Я была настоящей пухляшкой. Мои родители называли меня Коренастой Обезьяной. Я думала, что это мило, мой маленький животик, пока мне не исполнилось десять. Тогда моя мать решила, что это плохо отражается на ее воспитании. Мой отец думал, что это из-за недостатка силы воли. Недостатка характера. Они оба ненавидели это. И чем старше я становилась, тем больше родители разочаровывались во мне, как будто моя плоть равнялась моей ценности. Я занимала слишком много места. Даже не сказав ни слова, я была слишком громкой. Слишком очевидной. Слишком подавляющей. Меня нужно было взять под тотальный контроль. — Я слушаю, как завороженный, пытаясь представить себе этого льва, которого я знаю детенышем. — Летом, между пятым и шестым классами, они заставили меня поехать в лагерь для толстяков.
— Лагерь для толстяков?
— Все именно так плохо, как кажется. Шесть недель телесного позора, замаскированного под образование. Вот где я узнала, что со мной что-то не в порядке в том виде, в котором я была. Я была неполноценной. Чтобы быть в порядке, чтобы соответствовать требованиям общества, я должна была измениться. Мне пришлось съежиться. Мне нельзя было позволить и дальше оставаться в моем печальном состоянии, думая, что с моим телом все в порядке. Боже, что это дерьмо делает с мозгами маленького ребенка.
— Мне не нравятся твои родители.
Я говорю это слишком настойчиво. Слоан смеется.
— Самое странное знаешь в чем? Я знаю, что у них были благие намерения. Они не хотели, чтобы моя жизнь была тяжелой, и думали, что было бы действительно тяжело, если бы я оставалась толстой. Но они никогда не давали мне выбора по этому поводу. Итак, я отправилась в лагерь толстяков, чтобы ежедневно подвергаться унижениям и деморализации. Я думаю, они наняли консультантов из-за отсутствия души. Дама, которой меня сдали на попечение, превратила Кэти Бейтс в «Мизери» в фифу а-ля Мэри Поппинс.
Она останавливается, вздыхая.
— Как называется тот лагерь для толстяков?
— Ты же не собираешься сжечь его дотла.
— Это ты так думаешь.
— Это мило. Но сейчас он все равно закрыт. Власти штата наконец вмешались, когда у них появилось слишком много сообщений об избиениях.
— Избиения? — повторяю я громко.
— О, только не меня. Я действительно хорошо научился прятаться.
Мне больно это слышать, но как под гипнозом, я спрашиваю:
— Где ты пряталась?
— Прямо в открытую. У меня так хорошо получалось быть тем, кем они хотели, что их глаза скользили прямо по мне, как будто меня там не было. За эти шесть недель я сбросила более тридцати фунтов вместе со всем своим детством. — Ее голос становится тверже. — И никто больше никогда не видел меня настоящую.
Я чувствую почти непреодолимую потребность что-нибудь сломать. Нос этого консультанта.
— Когда я вернулась домой, мои родители были в восторге. Они не заметили моего нового молчания. Они не замечали, что я всегда смотрю в пол. Все, что они видели, —