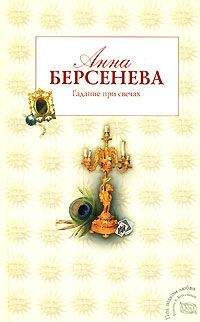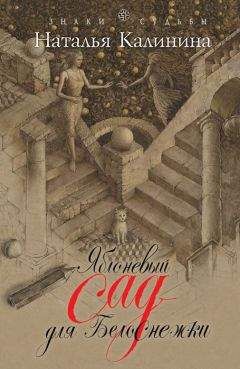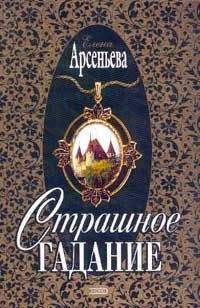– Нет, не то, что пьет. Тяжело как пьет…
– А! – понял Толя. – Так он же и вообще невеселый, ты сейчас только заметила, что ли? Да и с чего ему особо веселиться?
Марина не стала расспрашивать, отчего невесел ее муж. Самой ей стало грустно, и в таком нерадостном настроении встретила она свою первую брачную ночь, сидя у стола перед зеркалом и вглядываясь в игру света в глубине амальгамы.
Алексей действительно был невесел, и не только в день своей второй женитьбы. Он вообще был невесел, давно не замечая этого.
Он привык к своему одиночеству, и ему уже не приходилось даже преодолевать его, как это было в давний, первый год после ухода Даши. Вот в ту зиму он был близок к самоубийству – хотя, конечно, этого и тогда не допустила бы его могучая, жизнелюбивая натура.
Но безысходность давила его тогда отчаянно, безжалостно. К тому же и работы мало было в ту зиму, не каждый день надо было даже появляться в Гидропроекте. И Алексей оказался совсем некстати предоставлен самому себе.
Что он делал в те бесконечные месяцы? Сейчас он, пожалуй, и сам бы толком не вспомнил. Наверное, такое состояние бывает у человека, неожиданно, в полной силе вышедшего неизвестно зачем на пенсию. Да, кажется, он даже фильм такой смотрел, с Ульяновым в главной роли.
Ходить Алексею никуда не хотелось, видеть тоже не хотелось никого. И он сидел дома, привыкая к одиночеству и к спасительному вечернему хмелю. Единственное, что было хорошо во всем этом: он стал перечитывать книги из родительской библиотеки – без видимой цели, от одной только пустоты и подавленности.
В детстве и ранней юности Алексей читал довольно много. Да и как это могло быть иначе, когда дом был наполнен книгами, когда родители могли мимоходом упомянуть в разговоре то Растиньяка, то Андрея Болконского, словно своих близких знакомых? Но потом жизнь увела его от книг. Он учился, ездил, преодолевал, руководил, и мир его был реален.
Теперь же он снова погрузился в книжный, выдуманный мир, с удивлением открывая, что он-то на самом деле – настоящий, что законы, действующие в этом мире, не только приложимы к жизни, но и более того: они-то и есть самые верные, неотменимые жизненные законы…
Алексей понял это однажды ночью, и это открытие так поразило его, что он захлопнул книгу – кажется, это был Бунин, «Жизнь Арсеньева». Ему тесно стало в четырех стенах опостылевшей комнаты. Он вышел на улицу и медленно пошел по аллее к Патриаршим.
Ночь была холодная, весенняя. Алексей стоял у самого края берега и чувствовал, как поднимается в нем ярость – такая же холодная и живая, как гладь темной воды.
Книги стали в ту зиму единственным, что спасло его от запойного пьянства; Алексей понимал, что остановился на самом краю. Да ему и просто противна была эта пошлость – пить от несчастной любви; он возненавидел бы себя, если бы допустил подобное.
Читал он в основном то, что было написано в начале двадцатого века и что в юности он считал слишком сложным. Прежде его вообще угнетала сложность, он видел жизнь ясно и отчетливо, и ему казалось, что всякие тонкости нарочно выдуманы для людей с больным воображением.
И только теперь, когда его ясный мир был разрушен, Алексей понял, что на самом деле его и не было, такого мира, и быть не могло.
Но эта догадка почему-то не испугала его, как не испугал однажды прицельный выстрел браконьера на Подкаменной Тунгуске, когда пуля только случайно просвистела у самой щеки.
А ярость была – на самого себя. Что он позволил себе, во что себя превратил?! Что оставил себе в жизни – ненавистную комнату, ежедневную бутылку и безысходность, чувство собственного бессилия?
«Что тебя сломило? – морщась от отвращения к самому себе, думал Алексей, глядя на темную воду Патриарших. – Дашин уход? Но ведь, положа руку на сердце, разве ты так уж любил ее? Вслушивался ты в ее душу, знал ее, жить без нее не мог? Ведь не было ничего этого – ни сначала, ни тем более потом! Так – хрупкий чарующий образ, обнимающие колени, абрис щеки да золотые пряди… Да иллюзия ожидания, которая так тебе нравилась… И правильно сделала, что ушла! Какая женщина захочет всю жизнь оставаться иллюзией?
А работа… Ах, разрушилось все, ах, пропало дело всей жизни! Как чувствительная барышня или секретарь райкома!.. Можно подумать, ты не знал: половина из того, чем ты занимался, и было направлено на разрушение. Кому нужна была Осиновская ГЭС, из-за которой залило бы тысячи километров земли? А ты работал на это – добросовестно, со страстью, как работал бы на самую благую цель, потому что такая у тебя натура. Да любой браконьер порядочнее тебя: он по крайней мере знает, что выгребает икру из осетра из-за денег, и не выдумывает, будто делает это ради созидательного труда на общее благо!..»
Пожалуй, Алексей несправедлив был к себе тогда и ставил себе в вину многое, в чем вовсе не был виноват. Но он знал: без этой мучительной и спасительной ярости так и останется у разбитого корыта. Не обвинив себя – так и превратится в типичного неудачника, которых столько встречал в жизни.
После полугода одиночества, водки, книг и отчаяния Алексей Шеметов понял, что за всю жизнь накопил в себе достаточно мужества, чтобы принимать жизнь такою, как есть.
Алексей поднялся на крыльцо и вставил ключ в замок. Но дверь была отперта, и, вздохнув, он вошел в дом.
Конечно, Наталья опять здесь. Сколько раз он просил ее не приходить, но рука не поднималась отобрать у нее ключ – и она приходила каждый раз, когда он приезжал в поселок Бор.
– А вот и я, Алексей Васильич! – услышал он ее певучий голос из кухни. – Не ждал увидеть, а?
– Здравствуй, – сказал Алексей, снимая сапоги. – Откуда узнала, что приеду?
– Сердце чует! – хохотнула Наташа, выходя к нему в переднюю. – Соскучилась, Леш. Дай, думаю, зайду – не приехал ли? И обед приготовила, сметаны вот свежей принесла и молока…
Тон у нее был чуть заискивающий – конечно, потому что он совсем не хотел ее видеть, и она это понимала. Но она ничего не могла поделать с собой, Алексей знал это, и ему было жаль ее – красивую, крепкую, а такую беспомощную перед самой собою.
Сердце чует! Скорее всего, просто разузнала в конторе или видела, как садился его самолет. Но ведь ходила, узнавала, высматривала…
– Обед приготовила, – повторила Наташа. – Будешь обедать?
– Буду, – ответил Алексей, хотя есть ему совсем не хотелось.
Дом, в котором он жил, приезжая в Бор, был обычным деревенским домом – большим, состоящим из трех просторных комнат. Конечно, можно было поставить здесь отличный финский дом, специально приспособленный для Сибири. Но Алексею не хотелось устраивать для себя ничего особенного. Он и в Москве просто снимал большую квартиру у Никитских Ворот, и здесь не стал менять бревенчатый дом, купленный лет пять назад. Поменял только мебель, потому что не любил панцирных кроватей и лавок, – и все.