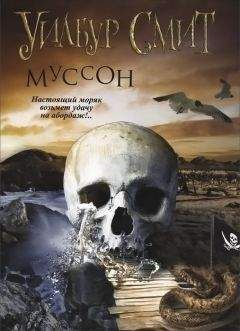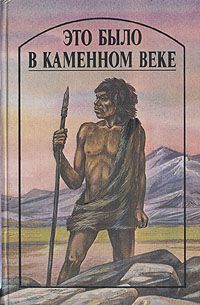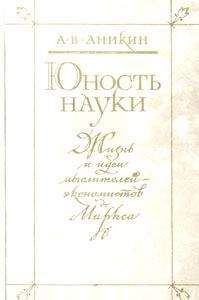Худые новости нынче валили валом. Когда-то кража карманником кошелька у пенсионерки, о чем в колонке происшествий сообщала «Никольская правда», вызывала негодующие пересуды. Теперь скупо, торопливо реагировали на убийство на соседней улице. В той же «Никольской правде» — было времечко — сообщалось: «Гражданин такой-то и гражданка такая-то расторгли брак такого-то числа». Это служило некой публичной нравоучительной поркой. Теперь статья о беспризорниках, живущих круглогодично в пещерах на местной свалке, не выливалась никому уроком. Криминальной хроники, трагических известий об авариях и крушениях даже здесь, в заштатном городе, оказалось понапичкано столько, что на всё не хватало ни ума, ни сердца, ни обывательского любознайства.
Но все же этот случай в Никольске, вывернутый и своей неприглядной изнанкой, казался слишком царапист и жгуч, чтобы второпях прошмыгнуть мимо него.
Пятеро мужиков из бригады Шубина сидели возле склада кружком, на изношенных, лысых автомобильных покрышках. Посреди, на картонном коробе, стояла литровая бутылка водки, эмалированная кружка, на пергаментной бумаге разложена килька, ржаной хлеб, раскроенные на четвертины помидоры, горсточка соли — незамысловатая снедь и выпивка для будничной мужиковской гульбы. Однако грузчики сидели смуро, переговаривались редко и коротко, много смолили табаку, к водке особо и не тянулись, даже как-то стыдились пить: не тот случай, чтоб загульванить.
— Чего сидим, гаврики? Почему простой? — выкрикнул Сергей Кондратов, широко шагая по платформе к своей бригаде. К условленному часу сбора он припозднился.
Его встретили без оживления. На прямой вопрос никто не ответил, просто протягивали руки, обыденно здоровались.
— В чем дело-то? — понизив голос, спросил Сергей. На лицах было писано происшествие. Даже Лёва Черных, самый близкий по приятельству среди сидящих, клонил вниз курчавую голову.
— Шубин застрелился. Всё, Серёга, нет больше бригадира! Отработался Костя с гавриками… Вот, поминаем. На, выпей. — Лёва налил в кружку водки, протянул Сергею.
— Почему застрелился? Себя, что ли? Объясните толком-то!
— Выпей сперва, — кивнул на кружку Кладовщик, сидевший рядом с Левой. — Помяни доброго человека. — И сам мелко перекрестился.
Сергей тоже крестно перемахнул себя щепотью и машинально выпил водку. Сперва зажал рукавом рот, потом отломил корочку хлеба — зажевать горечь.
— Из табельного оружия в состоянии аффекта. Ночью, на набережной. На дежурстве был, решил домой отлучиться, но до дому сил не хватило… — Лёва приставил указательный палец к виску — вроде пистолета, издал короткий негромкий звук «пых!».
— Не в висок, не путай! — строго уточнил Кладовщик. — В сердце он застрелился. Туда, где пуще всего болело. Не в висок! В голову, братцы, стреляются, когда ум покою не дает или совесть нечиста. А Костя в сердце пулю пустил, чтоб главную боль остановить.
— Из-за бабы с собой покончил.
— Пропади она пропадом, красавица евонная!
— Он вкалывал, вкалывал: то шубу ей, то колечко. А она, стерва — такую пакость!
— В том и дело! Незакаленным Костя оказался. Молод еще, не знал. Баба может такую подлость устроить, которая мужику и в голову никогда не вступит.
— Я бы тому менту, гаденышу, который ее предал, тоже бы пулю в лоб!
— Ежели бы она просто так сгульнула, повело молодую бабу от мужика — хрен бы с ней! А то ведь она с корыстью. А? Как потаскуха…
— Чё хочешь ряди, а за ради денег люди на любое отчаянье идут.
— Да какое отчаянье! Чего она, с голоду помирала? Чего у них, семеро по лавкам?
Мужики перекидывались фразами, из которых Сергей не уточнил ясного повода к самоубийству Шубина. Он в это самоубийство еще не мог и поверить, мрачно смотрел на поминальный «стол» и видел перед собой жизнелюбивого старлея, которых всех окружающих именовал «гавриками».
— Я с юности диву давался, — говорил Лёва. — Какую книгу ни возьму — всё про деньги. Сколько я их перечитал — и всё одна катавасия! Гоголь, Достоевский, Салтыков-Щедрин… А уж в пьесах Островского! Деньги, наследство, приданое. Без расчета пальчиком никто не пошевелит. Меня это аж коробило по молодости. Вот, думаю, люди дуреманы какие. Теперь накрылась коммунистическая уравниловка, всё опять и всплыло. Деньги стелили человеку судьбу — так и стелют! Вот и для Кости они дорогу выстелили.
— Только не в рай, прости Господи, — печально прибавил Кладовщик. Всем было известно, что православная церковь самоубиенных отвергает и запрещает их отпевать, но вопреки канонам Кладовщик, сидевший в расстегнутом синем халате, так что видать на груди серебристый нательный крестик на тонком шнурке, перекрестился. — В записке прощальной, братцы, написал: «Я так жить не смогу». Как мучился-то! А?
— Вот это обидней всего, — опять негромко загудели мужики. — А ты, Костя, смоги. Назло всем смоги!
— Это правильно. Подлость других, даже самых близких, твоей чести не убавит.
— Самую горькую боль самые близкие и приносят.
— С оружием он был. Может, без пистолета — и обошлось бы.
— Лучше б тогда уж ее порешил.
— Нет, ее он не мог. Он ей как медалью гордился, — сказал Кладовщик. Кладовщик и пересказал Сергею густым приглушенным голосом историю погибели Шубина. — …Вакансия в ихнем отделенье освободилась, должность майорская. А конкурентов-то двое: он да еще один лейтеха. Жена и стала Костю науськивать: давай, рвись, чего мешки-то таскать с мужиками, карьеру делать надо. Сходи к начальству, попросись на должность сам, согни спину. Костя парень-то сговорчивый, да перед начальством лебезить не захотел. Напросишься, прогнешься разок, так после в холуи запишут, не отмажешься. Так оно по жизни-то и выходит. А? Не пошел он проситься. — Кладовщик вздохнул, нахмурил седые пучкастые брови, промолвил: — Она сходила к его начальнику… Она ведь тоже в управленье ихнем работала, вольнонаемной, бумаги какие-то перебирала. Всё вроде шито-крыто вышло. Да не для всех. Косте должность отдали, вчера приказ начальник подписал. А его конкурент расчухал, откуда ветер, вынюхал, как чего. Ну и спьяну позвонил, сукин сын, Косте, поздравил с назначением. Бухнул ему: ты с такой женой до генерала скоро дослужишься… Дерьмо народ! А? Из глотки друг у друга кусок вырвать готовы!.. Костю под утро на скамейке на набережной нашли. Ночью он сам себя. Видно, совсем невмоготу сделалось.
Некоторое время мужики сидели в молчании. Они опять переживали то, о чем рассказал Кладовщик, и вероятно, сопротивлялись смерти Шубина, давали ему запоздалые советы, судили его жену. Они не могли чего-то понять в этой гибели молодого милицейского офицера: здесь отсутствовали месть, расплата, любовь к жизни. По логике чего-то недоставало, но этого и не могло доставать. Тут и не могло идти по здравомыслию и расчету. Все тупые вопросы «Почему?» оставались навсегда безответными.