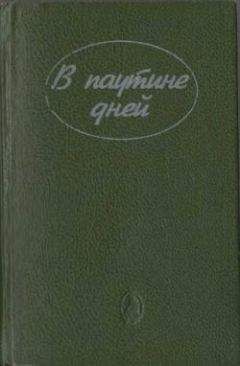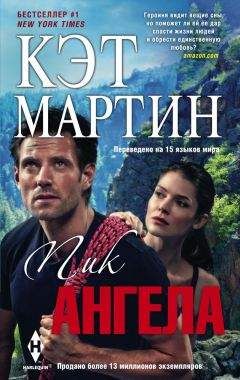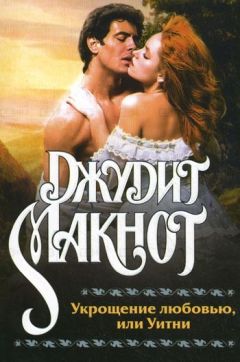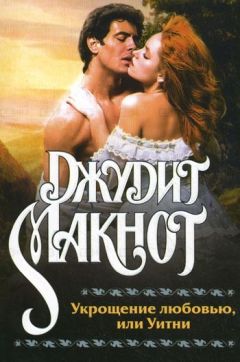Тетя Фрици сжимала и разжимала руки.
– Мы поможем друг другу. Я, знаешь, не такая мать, как Нина. У меня нет опыта. И кроме того, я… я никогда не играла в теннис.
На лице Джеральда мелькнуло что-то вроде улыбки. Они обменялись какими-то непонятными взглядами. Это не был взгляд, какими обмениваются мать и сын, скорее, он походил на взгляд двух незнакомцев – мужчины и женщины, оценивающих друг друга и, быть может, способных обрести взаимное понимание и уважение.
Молчание нарушила Кейт.
– А как насчет Элдена? – спросила она Уэйна. – Я знаю, почему вы его услали. По-моему, вы поступили правильно. Обязательно ли моему брату знать обо всем этом?
Я помню, как она страшилась того, что Элден узнает правду. Ее страх сбил меня тогда с толку – она боялась того, как Элден воспользуется этим новым знанием, не станет ли он терзать Джеральда, издеваясь над его незаконнорожденностью, не будет ли дразнить его, указывая на то, что по отцу он вовсе не Горэм.
– Я только немного все отсрочил, – сказал Уэйн. – Что будет дальше, зависит от Джеральда. И от вас.
– Ему незачем знать, – торопливо проговорила Кейт, обращаясь к Джеральду. – Я ему никогда не скажу, и…
Стыд, на какое-то время охвативший Джеральда, уступил место иному чувству. Он почти зримо отшатнулся от перспективы дальнейшего подчинения женскому деспотизму.
– Я сам ему расскажу, – заявил он.
Кейт не сказала больше ни слова, но в глазах ее засиял какой-то необычный свет.
Тетя Фрици заговорила с откровенным одобрением.
– Молодец! – сказала она. – Давно пора, чтобы этим домом начал править мужчина. Матриархат царил здесь слишком долго.
Уэйн внимательно смотрел на меня.
– Вы дрожите, – вдруг сказал он.
– На этот раз дело не в птицах, – по крайней мере это я могла ему сказать с полной уверенностью. – Я вошла в оранжерею, когда они были на свободе, и напугали меня не птицы. Но произошло так много всего, что я… я просто ничего не понимаю.
– Пока сюда приедут из Шелби, у нас есть время поговорить. Пойдемте со мной, – позвал он.
Он провел меня в комнату для приема гостей, и я села с ним на диван, где еще совсем недавно сидела рядом с бабушкой Джулией. Я слушала его рассказ о том, что произошло много лет назад, когда Генри Горэм привез Фрици домой из Нью-Йорка и бабушка узнала, что ее дочь беременна.
Весь план разработала Джулия. Она успела это сделать еще до того, как ребенок появился на свет. Мой отец, врач, знал, так же как и Джулия, что Нина никогда не сможет родить. Но Джулии необходим был наследник, связанный с ней кровными узами, – и вот тут-то ей и представлялся удобный случай, хотя она хотела избежать скандала и исключить обвинения в незаконнорожденности. С помощью различных угроз она заставила моего отца и всех остальных поддержать ее план. Ей удалось запугать даже Диа. Насколько я знаю, он с самого начала был против всей этой затеи, но она буквально поймала его в силки, так что он вынужден был подчиниться ее воле. Нине страшно хотелось иметь ребенка. Она не имела ничего против того, чтобы Джеральда отняли у Фрици и был устроен весь этот тщательно продуманный обман, с тем чтобы Джеральд рос, считаясь ее собственным ребенком. Фрици в то время была явно на грани помешательства, и ей сказали, что ее ребенок умер.
– А какова была роль моей матери во всем этом?
– Джеральд родился здесь, в Силверхилле, роды, разумеется, принимал мой отец, он же фальсифицировал документы. Когда ребенку было всего несколько дней, ваша мама тайком отвезла его в Вермонт, где находилась тогда Нина. Нина отправилась туда за несколько месяцев до всего этого, будто бы беременная и неспособная переносить все эти домашние неурядицы. Генри, разумеется, все знал и через положенные несколько месяцев отправился в Вермонт, чтобы привезти домой жену и своего «сына», так что все стало вполне официальным.
К сожалению, Генри терпеть не мог мальчика. Он не давал Джеральду прохода.
– И тетя Фрици все это время знала, что ее обманывают?
– В этом-то, как оказалось, и заключалась опасность. Она тайком сшила для ребенка платьице, и когда Нина привезла ребенка домой, Фрици заявила Диа, что это – ее ребенок. В тот день на лестнице она пыталась показать ему платьице, сшитое ею, чтобы доказать, что это был тот самый ребенок, которого она видала в колыбельке. Диа был ужасно всем этим расстроен, но он должен был всеми средствами успокоить ее во избежание еще худшего скандала. Кроме того, он искренне считал, что Фрици неспособна воспитать ребенка. В результате между ними произошла ссора, а чем она кончилась, вы знаете. Вы понимаете, под каким страхом все это время жила Нина. Она буквально посвятила Джеральду жизнь – до такой степени, что почти уверовала в то, что он – ее родной сын. В то же самое время она постоянно сознавала опасность разоблачения и боялась, что, узнай он о подстроенном обмане, все обернется против нее. Он и вообще-то не испытывал к ней особой привязанности. Она хотела, чтобы он стал наследником Джулии, но ей также хотелось, чтобы он всю свою жизнь верил в то, что он – ее сын.
Теперь я начинала ясно представлять себе всю эту грустную картину.
– Нина всегда ненавидела Фрици, – продолжал Уэйн, – она завидовала тому, что Фрици – настоящая мать Джеральда, и она считала ее повинной в том, что у Джеральда оказалась изувеченная рука. Но в то же самое время она и боялась ее. Постоянно приставала к Джулии с требованиями отослать ее куда-нибудь из дому, потому что не была уверена, навсегда ли Фрици утратила память. Тут появились вы, и начали происходить всевозможные события. Ваша мама, по-видимому, убежала из Силверхилла, чтобы уйти от всей этой ситуации, – ситуации, которую она бессильна была изменить потому, что никогда не могла противостоять Джулии Горэм – так, как сумели противостоять ей вы. Думаю, что она никогда так и не избавилась от чувства вины, и письмо, которое она написала Джулии перед смертью, было с ее стороны попыткой как-то загладить свою вину перед Фрици. Но она умерла, не успев сообщить вам содержание этого письма.
Я чувствовала в своем сердце боль также и за маму – столько лет хранить в памяти такую тяжкую тайну!
Уэйн встал с дивана и остановился перед портретами Диа и Джулии. Моей руки коснулось что-то твердое, лежавшее рядом со мной на подушке. Оказалось, что это – рубиновый перстень моей бабушки. Теперь я могла носить его в знак памяти о ней. Надев его на палец, я подошла к Уэйну и остановилась рядом с ним. Теперь молодое лицо на портрете означало для меня больше, чем тогда, когда я увидела его впервые. На этом молодом лице были написаны гордость и решительность, но в нем ощущались также сила и мужество. Ах, если бы только она не использовала эти качества как орудие своеволия!