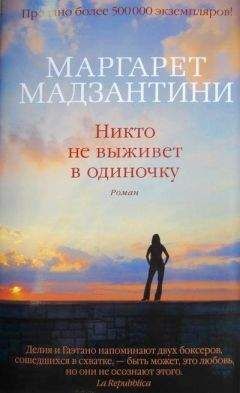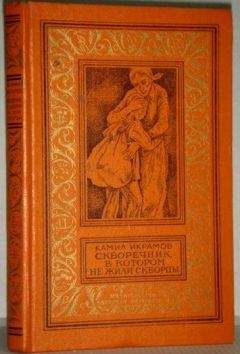Я затампонировал кровотечение, вычистил гнойник, сделал малую резекцию кишечника. И только напоследок занялся маткой. Она была слишком инфицирована, инфекция затронула ее всю, рисковать было нельзя. Я удалил этот серый футляр, который должен был стать первой колыбелью нашего ребенка. Больше я не поднимал глаз, Анджела, только иногда, если мне надобился новый инструмент, я переводил взгляд направо, на руки черноволосой сестры, которая каждый раз не вполне понимала, что мне требуется. В комнате слышался только шум от моих рук, работавших в теле Италии. Шуршание, скольжение и смыкание пальцев, занятых операцией. Но к ее концу ко мне вернулась бодрость, я был полон веры. Я был мокрым, я дрожал, от меня пахло. В окно вовсю гляделся день, в комнате прибавилось света, операционный стол осветило солнце. Медсестра покрылась потом, она устала, ей было жарко. И немудрено — сейчас я тоже заметил, что в комнате стоит жара. Я зашивал брюшину, жара струилась по моей голове, ощущалась в кончиках пальцев. Диаграмма сердечных сокращений выглядела нормальной. Я продевал иглу сквозь ее плоть, словно аккуратный портной, наводящий последний блеск на чье-то подвенечное платье. Ночь прошла. Еще немного, и я наконец-то усядусь на тот стул, что стоит за моей спиной. Уже два дня я не принимал ванны и не брился, тем не менее сейчас я полагал себя настоящим ангелом. Глаза у меня были закрыты, затылком я опирался о стену — ну чем не герой телефильма?
* * *
И все-таки она умерла, двумя часами позже жизнь от нее отлетела. Я был около нее. Она проснулась. Чуть раньше я успел перевезти ее в палату на этом же этаже, рядом с ее кроватью находилась еще одна, пустая. Она очнулась от наркоза в тот момент, когда я стоял перед окном, выходившим прямо на дорогу. Я смотрел на пейзаж, которого не успел заметить ночью, — теперь, при дневном свете, окружающая местность оказалась плоской и глинистой. Бросался в глаза большой рекламный щит: ковбой, скачущий на жестянке с пивом. Словно на границе, мелькнуло у меня. Да, мы тут и вправду были как бы в пограничной зоне. Само строение, в котором располагалась больница, имело вид временный и совсем казенный, очень походило на таможню. Ну что ж, любая история любви нуждается в антураже, сказал я себе.
Мимо прошла машина, маленькая красная малолитражка, прошла совершенно бесшумно. Солнце стояло уже высоко. Скоро опять настанет лето. Я улыбнулся.
Она что-то пробормотала, я подошел к ней. Солнце отражалось у нее в глазах, серая радужка так и искрилась серебристыми чешуйками.
— Пить хочется… — пробормотала она, — пить.
Бутылка с водой стояла на тумбочке, крытой пластиком; эту бутылку медсестра принесла для меня, и я сразу же выпил ее залпом, почти всю, после жаркой одури этой операции, длившейся почти шесть часов. Сейчас в бутылке воды оставалось чуть-чуть, она едва покрывала зеленое стекло донышка. Я вытащил из кармана платок, вылил на него несколько капель, провел платком по ее горячим, потрескавшимся губам. Она открыла рот, как птенец, просящий корма.
— Еще…
Я снова помочил платок, оставил мокрый уголок между ее губами, она принялась его сосать. Все произошло за несколько минут, она вдруг подняла голову, которая дернулась назад. Послышался голос — совсем чужой, не ее.
— Как же я теперь?
Она вроде бы ни к кому в точности не обращалась, а может быть, обращалась к самой себе, к той Италии, которую видела вдалеке, — эта Италия была ее близнецом, она танцевала над ее головой, делала ей призывные знаки с потолка. Я впился в нее глазами, вцепился руками в кровать. Куда же ты собралась, маленький мой потрепанный щегленок, уставшая моя лягушка? Куда ты надумала уйти? Я навис над нею, подпираясь кулаками, стараясь на нее не свалиться. Я мешал ей видеть. Я был в тени, ее, лежавшую чуть ниже, освещало солнце. Она уже была не здесь. Взгляд ее устремился в пустоту, она что-то там искала, высматривала какое-то местечко над собою — и металась, словно добраться до этого местечка было немыслимо трудно.
— Как же я теперь? — сказала она еще раз хриплым, тихим, надломившимся голосом, словно обращаясь к тому, кто ждал ее там, наверху, на низком потолке, по которому крались солнечные пятна.
Я погладил ее по лицу, челюсти у нее были невероятно напряжены, на коже под подбородком обозначились голубые жилки, шея была жесткой и прозрачной, напоминала пергаментный фонарь на ветру. Сколько раз я видел, как она таким же вот образом впадала в забытье! Сколько раз во время наших объятий она внезапно откидывала голову назад, к стене, шея у нее вытягивалась, становилась длинной и худой, и в темноте она тоже искала какое-то сугубо свое местечко. Веки ее сходились, ноздри расширялись, она словно принюхивалась к какому-то аромату. Это был тот острый аромат счастья, которого ей не дано было достигнуть, но, мечась по потной подушке, она отчаянно его искала. Я еще раз попробовал поймать ее взгляд, но подбородок Италии выскользнул из моей потной руки.
— Любовь моя…
Она глубоко вздохнула, грудь ее поднялась, потом опала, и при этом выдохе все тело ушло вниз и стало меньше. Тогда она на меня все-таки посмотрела, но я усомнился, видит ли она меня. Губы ее шевельнулись, прошелестели последние слова:
— Неси меня.
Куда нести, она не сказала. Лежала неподвижно на подушке, уже не живая, но еще не полностью ушедшая, задержавшаяся в том непостижимом месте, после которого начинается смерть. Ее лицо разгладилось, утратило напряженность, она смотрела вверх, туда, где кто-то ее поджидал, туда, где, как утверждают, нет печали. Последний ее вздох стал тихим, облегченным стоном. После этого, Анджела, она улетела на небо.
Ты только не двигайся.
Я увидел, как капнула на нее моя слюна, слюны у меня набрался полный рот. Не оставил ее ни глазами, ни дыханием, дышал, оставаясь с нею рядом. Клонился все ниже, был совсем близко от нее, наверное, надеялся спасти своим дыханием. Навис над ней с искаженным лицом… Ощутил, как что-то воздушно-легкое отделяется от нее, словно парок, слетающий с поверхности воды. Я вовсе не думал, что смогу еще что-нибудь сделать в качестве врача, я совсем забыл, что я врач. Я смотрел на нее, как смотрят на нечто таинственное, смотрел неотрывно и затуманенно — точно так за несколько часов до этого я, Анджела, смотрел на твое появление на свет. Вот так я проводил Италию в смерть. Я подождал, пока последний вздох слетел с ее губ, след этого вздоха я ощутил на лице. Она просто испарилась из комнаты, буквально впиталась в потолок. Я инстинктивно задрал голову, стал искать вверху. И знаешь, Анджела, там, наверху, я увидел его, я увидел нашего с нею сына. Он предстал передо мною на один-единственный миг, он не был красивым, у него было заостренное худое лицо, такое же, как у его матери. Этот маленький пройдоха явился за нею и унес ее с собой.