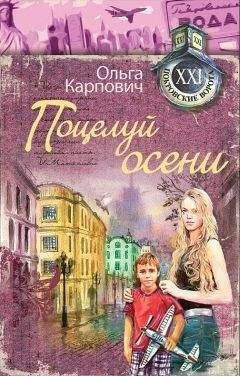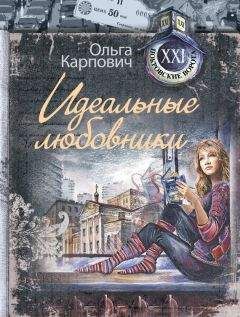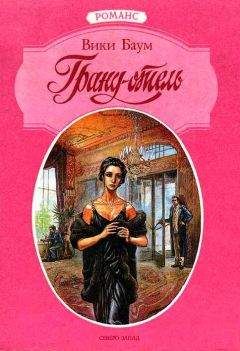— Мама, о чем ты? Уйди, пожалуйста!
Но тут из комнаты грозной поступью вышел бывший военный летчик.
— А, барин вернулися? На дочь взглянуть не желаете? — тихо осведомился новоиспеченный дед.
И снова в его голосе зазвучало что-то такое, что Ольга отпрянула, забилась в угол прихожей, с ужасом ожидая неминуемой развязки. Евгений же, кажется, ничего такого в голосе ее отца не уловил.
— Я… Я в общем-то… — неуверенно начал он. — Лучше, наверно, в другой раз. Я с мороза. А ребенок все-таки болен.
— Зачем же пожаловать изволили? — наступал на него летчик.
— Я, собственно, денег привез, — петушась, воскликнул Женя. — Вам же нужно, наверное…
— Денег? — гаркнул вдруг отец.
Он выхватил из рук жены пачку банкнот, сунул ее за отворот дубленки пятившегося Женьки, распахнул дверь и вытолкнул того на лестничную площадку.
— Не нуждаемся! — хрипло выкрикнул он. — Вон пошел!
Ольга видела, как Женька, никогда не унывающий Женька, испуганно, как-то боком, трусцой сбегал вниз по лестнице, в панике оглядываясь на сурового летчика.
— Папа, ну зачем ты? — всхлипнула она.
— Ничего, дочка, ничего! — примирительно похлопал ее по руке отец. — Сами вырастим. Никогда перед подонками не лебезил, нечего и начинать на старости лет.
Ольга же бросила быстрый взгляд в зеркало и охнула в отчаянии. Боже мой, неумытая, нечесаная, в старом халате, закапанном молочной смесью. Во что она превратилась, и все из-за этого вечно орущего, издергавшего всю семью младенца. Неудивительно, что Женька не захотел даже обнять ее. Этакое страшилище!
Не в силах поверить, что это и есть конец всем ее мечтам и ожиданиям, Ольга попробовала попытать счастья еще раз. Уж теперь она позаботилась о том, чтобы выглядеть привлекательно. С трудом уложила отвыкшими пальцами пухлую шишечку на затылке, закрутила задорные колечки у висков, набросила на плечи материнскую шубу и поехала прямиком на Котельническую, караулить любимого у подъезда.
Женька никак не появлялся, и она замерзла, замерев возле подъезда высотки. Дом со множеством арок, башенок и подъездов жил своей жизнью, равнодушные люди входили и выходили, и никому из них не было до нее дела. Покрытая серой коркой льда Москва-река обдавала холодом. По мосту, деловитые и быстрые, бежали автомобили. Нос покраснел, стрелки на веках размазались от летевшего в лицо снега, и когда наконец он вышел, Ольга снова не смогла изобразить той, прежней, очаровательной и легкомысленной улыбки.
— Ты что тут делаешь? — удивился он.
И Ольге показалось, что в словах его прозвучала досада.
— Женя, это же я, — тихо произнесла она, напряженно вглядываясь в не желавшие смотреть на нее золотисто-янтарные глаза. — Ты забыл разве? Ведь мы собирались… Я же люблю тебя, Женька!
— Давай-ка прогуляемся, — отвернулся он.
Схватил ее под руку и повел куда-то по набережной. Колючие снежинки сыпались в лицо, и голос Евгения казался таким же — холодным и неприятным.
— Ольга, ты должна понять. Мне ведь было двадцать два, тебе восемнадцать. Что мы вообще видели в жизни, что понимали? Ну, встречались, ну целовались, несли всякую чушь. Но ведь два с лишним года прошло. У тебя своя жизнь, у меня своя. Я мог бы сейчас, конечно, как честный человек и все такое… Но ты же понимаешь, что это все мещанские правила, которые никому не приносили счастья. К тому же у меня другая женщина, и у нас серьезные отношения, понимаешь? Ну зачем мне калечить твою жизнь, а тебе мою? Ведь мы, по сути, чужие друг другу люди…
Ольге казалось, что еще минута, и она закричит, завоет от этих слов.
— Ладно, — кивнула она, отступив на шаг и вытащив руку из-под его локтя. — Я поняла.
Евгений с видимым облегчением улыбнулся, сказал:
— Ну и прекрасно. Ты звони, если что. Денег там или помощь какая-то…
И пошел прочь, сияя сквозь валившийся с неба снег своей модной золотистой дубленкой. Ольга же на самом деле поняла лишь одно — что счастье ее, сумасшедшее, небывалое, никем не виданное прежде счастье, отобрали больная дочь, грозный отец и сварливая мамаша.
Однако делать было нечего, пришлось возвращаться в семейное гнездо, на этот раз возвращаться уже окончательно, ни на что больше не надеясь. Дед и бабка тем временем, вскоре забыв о посещении блудного зятя, с новыми силами взялись за выхаживание внучки, подогнали жизнь под расписание приема лекарств. В результате этого нечеловеческого трехлетнего подвига девочка встала и пошла своими ножками, заговорила, стала держать ложку в руках, и головка у нее теперь болела не двадцать четыре часа в сутки, а двенадцать, затем шесть, а потом и вовсе головные боли перестали ее мучить. Смерть с одной стороны, бабка с дедом с другой. Победила семейственность.
К шести годам Лика ничем не отличалась от нормальных детей. Она не была заторможена, или плаксива, или не в меру капризна. Тяжкие страдания, перенесенные в раннем детстве, закалили ее характер, и девочку не так просто было вывести из себя. Врачи только руками разводили — такое небывалое везение, просто чудо. И все же настоятельно не рекомендовали девочке в будущем обзаводиться потомством — чудеса чудесами, а генетика — вещь неумолимая.
После выздоровления Лика, для адаптации к коллективу, была отправлена в детский сад. Но суровое сердце деда-летчика, два раза горевшего в самолете, почти глухого, томилось и спотыкалось в одиночестве, и он, несмотря на яростные протесты продмага и еле слышное шелестение со стороны мамахен, извлек любимое чадо из советской кузницы зла. Пролетарское воспитание для Лики было закончено, она ни разу не ездила в пионерский лагерь, для школы оформлялись бесконечные справки-освобождения от физкультуры, а в столовой ее, единственную, не заставляли давиться манной кашей в склизких, мерзких комочках.
Зато они с дедом бродили в лесу до темноты, приносили разгневанному продмагу две корзины грибов, охапку душистых, свежесорванных целебных трав. И, казалось, нет ничего прекраснее в жизни, чем брести вот так по убегающей из-под сандалий сухой тропинке, держаться за мозолистую ладонь и слушать монотонный тихий голос:
— Вот, помню, в сорок втором тяжело было, зима разразилась лютая…
Ольга тем временем, освободившись от необходимости нести посменную вахту возле больной девочки, занялась устройством личной жизни и вскоре нашла-таки женское счастье в объятиях начинающего художника, по слухам, большого таланта. И хрупкое равновесие, установившееся в семье в последние годы, снова было нарушено. Несокрушимому союзу воздуха и товаров народного потребления отчаянно не понравился зять, художник, придурок и выпивоха. Эти крайне неприятные и, как казалось счастливому новобрачному, тайные пороки были тут же извлечены на свет божий и обнародованы во всеуслышание прозорливым продмагом: «Не будем пригревать нищету голозадую, мазилкин, тоже мне, еще чего не хватало», — был вынесен вердикт. А уж когда Личка после посещения этого козлобородого творца заболела ангиной с высокой температурой, тут уж дед клятвенно пообещал, что ноги его, потенциального убийцы и мучителя ребенка, не будет в доме.