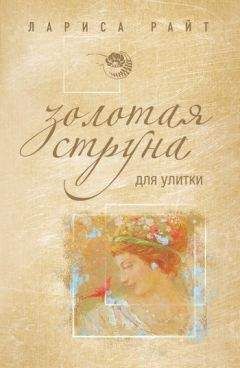Вера мечтательно закатила глаза:
— Да… Кокона, конечно, и после института не забудешь! Луч света в темном царстве! — Потом опомнилась и взялась за книгу. — Ладно, харэ трепаться, последний экзамен еще сдать бы с первого захода!
Дина вытянулась на постели, закинув руки за голову.
— Зубрите, девочки, а я отдохну. Чаю захотите, скажете.
Она посмотрела на цветной портрет Муслима Магомаева, песни которого очень любила, особенно пластинку на итальянском языке. Портрет был вырезан ею из какого-то журнала — кажется, из «Советского экрана» — и висел как раз напротив Дины, на торце стенного шкафа, где расположились еще несколько портретов, имеющих каждый свою историю.
Вот Жан Маре на глянцевой фотокарточке, которую Дина вымолила у своей тети и которую той подарила ее подруга. В нижнем углу карточки стоит автограф, сделанный синими чернилами. И хоть тетя Ира пыталась объяснить Дине, что это никакой не автограф Жана Маре, а подпись эту ее подруга сделала сама, Дина не желала в это верить.
Рядом — жуткого качества, переснятый с крошечного снимка и увеличенный до размера журнальной страницы, снимок Анны Маньяни из фильма, который Дина не смотрела. Она увидела однажды в журнале небольшую статью об итальянской актрисе с красивым именем, так соответствующим ее необыкновенной внешности. Статью иллюстрировали несколько черно-белых кадров из фильмов с ее участием. Тот, что висит сейчас на шкафу, — лицо актрисы в контрастном освещении — понравился Дине больше всех, и она попросила лаборанта из школьного кабинета физики переснять и увеличить этот портрет.
Чуть левее — Дина Дурбин. Симпатичная женщина, но не в Динином вкусе. Это была мамина идея: назвать дочь именем известной актрисы с фамилией, так созвучной ее собственной. «Вот станешь великой, — говорила мама, — тогда Дину Дурбин будут вспоминать только потому, что ее имя похоже на твое!» — и смеялась довольно.
А вот портрет Дининого любимого писателя. Дина долго просила маму купить ей этот портрет, выполненный фотографическим способом на тисненой бумаге, похожей на ткань, с петелькой на толстой картонной подложке — такой настоящий, добротный портрет. Он стоил два рубля и десять копеек — это были большие деньги для их бюджета, а такую вещь, как портрет писателя, пусть даже самого любимого, мама Дины не считала жизненно необходимой. Тем не менее однажды, когда Дина окончила девять классов почти отличницей, всего с одной четверкой, мама вспомнила об этой странной просьбе дочери и решила поощрить ее прилежание в учебе. К тому же это было время, когда ее, маму, повысили по службе, и она стала получать на восемнадцать рублей и сорок копеек в месяц больше, чем прежде. Да и вообще, Динина мама вовсе не была жадной, просто она была практичной.
И снова Муслим Магомаев… Он чем-то все же похож на…
Не важно! Сейчас это не важно! Дине захотелось вспомнить, как все было на экзамене по самому трудному предмету. Она мысленно отмотала назад воображаемую кинопленку, запечатлевшую это событие, и стала смотреть…
Вот она идет по проходу к столу преподавателя, перехватывает его взгляд, следящий за ее ногами, и останавливается на полпути. Константин Константинович Колотозашвили, одетый в просторную красную блузу с высоким воротником и широкими рукавами, собранными на манжетах, распахнутую на груди и заправленную в черные облегающие брюки, поднимается со своего стула и встает во весь свой немалый рост. Он простирает руки в сторону Дины и произносит сочным баритоном:
— Поздравляю вас с отличным завершением сессии, Дина Александровна.
В тот момент, когда Дина с трепетом и радостью узнает в преподавателе Муслима Магомаева, невесть как появившегося здесь, в экзаменационной аудитории, впервые наяву, а не на снимках, — именно в этот момент в дверь аудитории заглядывает Вера, ее соседка по комнате, и бесцеремонно вторгается в дивный миг встречи с любимым певцом:
— Дин, чего не переодеваешься? Чайку бы поставила.
Дина точно помнит, что эпизода с заглянувшей в дверь Верой на экзамене не было…
Она открыла глаза.
С фотокарточки на Дину смотрел Муслим Магомаев в красной распахнутой на груди блузе, он протянул к ней распростертые руки, рот его широко раскрыт, словно застыл на слове «поздрав-ля-а-а-а-ю». А за столом раскачивалась на скрипящем стуле Вера.
— Все равно тебе делать нечего, — добавила она.
Как будто Дину нужно уговаривать или принуждать!
Дина встала, взяла с подоконника чайник и вышла из комнаты. Она отправилась в кухню, чтобы вскипятить воду на газовой плите, и поэтому не могла слышать диалог своих соседок, состоявшийся за ее спиной во время приготовления стола к чаепитию.
Вера:
— Счастливая Динка, сессию сбагрила.
Валя:
— Да еще на «отлично».
Вера:
— Кому-кому, а ей-то эти пятерки нелегко даются.
Валя:
— Да уж… Последняя только как с неба.
— Ну. Не говори. Да еще у кого — у Кокона!
— Может, он и на нее глаз положил?
— А что? Может. Она хоть и не красотка, а подать себя умеет.
— Это точно.
— Дура будет, если клюнет.
— Ну… Как Римка, потом на аборт пойдет… А где Римка-то наша, кстати?
— Может, в читалке…
— Ага! Римка — в читалке! Не смеши!
— Ей же Варваре пересдавать надо, а тут уж пока в читалке зад не отсидишь — шиш пересдашь.
— Вообще-то да…
В этот момент в комнату вошли Дина с кипящим чайником и Римма — та самая четвертая обитательница комнаты, которой Вера с Валей начали было перемывать косточки.
Римма — яркая брюнетка с темно-серыми глазами и плавными движениями своенравной кошки — была очень симпатичной девушкой. Пожалуй, единственное исключение из Дининой теории о том, что красивые люди или нереальны, или живут где-то в дальних краях. Как Анна Маньяни.
Римма умело пользовалась тем скромным арсеналом декоративной косметики, который был доступен небогатым студенткам: перламутровые тени серого или голубого цвета — зачастую купленные у цыганок, сделанные невесть из чего и запечатанные в обычную пластмассовую черную или белую фигуру для игры в шашки, прикрытую кусочком целлофана, — и темно-розовая помада, которую она берегла для особых случаев. Средство для подводки глаз у нее было таким же, как и у большинства девчонок: черный карандаш «Живопись». На голове Римма носила «конский хвост» — как Дина, как и большинство девушек в те годы, — только волосы у нее были более густые и более блестящие, чем у остальных. Да, Римму вполне можно было назвать красивой девушкой.