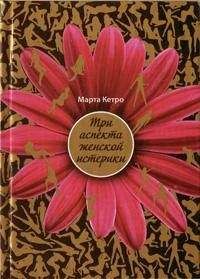Но нет, еще не сейчас. Еще одна история, прежде чем я перейду к совсем плохому… Хочется описать не только общие места, но и серую осеннюю реку, у которой стояли мы, одетые в синее и вишневое; подсвеченный обелиск в заснеженном небе; ночные прогулки по парку, когда, держа его за руку, я совершенно явственно чувствовала, как легко дышать только любовью. Черт, я так надеялась избежать этого слова.
Весной я переехала в другой район, и мы стали встречаться реже.
Роза
Я повторяюсь – мы не были влюблены в розово-страстном смысле этого слова, но из нашей длительной дружбы выросла такая всеохватывающая привязанность, что не было нужды находиться рядом постоянно. В этой привязанности вполне мог поместиться остальной мир. Я помню, как моя нежность распространялась, раскидывала крылья прямо от метро, осеняя и мокрую дорожку, и светофор, и клены, и ларек со сладостями, и ступеньки, ведущие в его двор, и сам двор, и рыжего кота в нем, и подъезд, на первом этаже которого всегда пахло щами (я приезжала туда недавно – щами пахнет до сих пор), и лестницу, и черную дверь квартиры, и саму квартиру, с его барабанами, одеждой, благовониями, с ним. Поэтому, когда появилась Розочка и он сказал, что ее тоже нужно полюбить, мне показалось нетрудным включить ее в круг своей нежности. Как Цветаева писала: «Сонечка была дана мне на подержание», так и мне хотелось держать ее, как голубку, в руках, и чтобы сердце билось в мою ладонь. У нее было худое и прямое тело, как осинка, с родинкой под левой грудью, словно третий сосок. Розочка любила экстази. «Не бойся, от этого не умирают, от этого живут». Съев таблетку, она снимала штаны и оставалась с голой попой. Совершенно асексуальный детский жест подчинения: «Я еще маленькая, я без трусов, можно меня наказать или посадить на горшок». Я гладила ее худую вздрагивающую спину и говорила: «Бедный одинокий ребенок, девочка, о чем ты молчишь?» Мне казалось, что горло ее вечно сжато невысказанной просьбой о жалости. Она уходила в соседнюю комнату и плакала на полу в одеялах, а я, задыхаясь от нежности (я знаю, как скомпрометирована эта фраза, но никуда не деться от нее, от нежности, заполняющей грудь и горло, выступающей сквозь кожу, терзающей руки желанием прикасаться и гладить), оставалась сидеть, слушала плач, купаясь в ее чувствах. Не в обиде, а в том, что наша девочка так сильно живет, так открывается и изливает свое сердце. Х учил меня уважать чужое переживание, не мешая человеку постигать всю меру отчаяния, одиночества и личной смерти. И принимать его, когда он вернется в поту и в соплях, огладить несчастное трясущееся тело, прижать его голову к своей груди и сказать все-все слова любви, какие найдутся в душе. Поэтому я просто сидела и ждала, когда она придет ко мне. Не дождалась, уехала домой и по дороге вспоминала биение ее сердца в моих ладонях. И утром тепло не покинуло меня, я проснулась с любовью и позвонила ей, чтобы сказать: «Люблю тебя», – а она ответила: «Я тоже».
Через пару дней он снова позвал меня. Мы лежали обнявшись и негромко разговаривали о всякой всячине, как привыкли, – о погоде, о концертах, о его занятиях с учениками. Розочка сидела у нас в ногах, под лампой, и делала коллаж, вырезая картинки из журналов «Факел», «Она» и какого-то порно. Время от времени она звала нас посмотреть, а мы говорили: «Не хочется, Розочка», – и продолжали болтать. Она ушла в соседнюю комнату, включила Цезарию Эвору, и он сказал ласково: «Розочка грустит. Она всегда слушает „Содад“, чтобы поплакать». Я спросила, не уйти ли мне, а он сказал – рано, и я вдруг стала говорить ему о любви, о нашей с ним неизбежности друг для друга. Не меняя интонации, тем же тоном, что и о погоде, спросила: «Почему ты не женишься на мне?» А он ответил, что ему нужна такая же, как он, расп…дяйка, «жена барабанщика», понимаешь, не «мама», а такая, как Розочка. Я почувствовала острую жгучую обиду, я давилась дыханием, а он очень внимательно смотрел на меня, гладил по лицу и говорил: «Да, да, как больно, девочке больно, как ты красива, когда живешь». И я отдавала ему свое мокрое лицо: несчастные глаза с розовыми прожилками, покрасневший нос, распухшие потрескавшиеся губы, поперечную морщинку между бровей, усталую кожу, местами шелушащуюся от холода, а местами с черными точечками пор – обнаженное, открытое, стремительно стареющее лицо, а он все повторял: «Как же ты красива!»
Потом он пошел сделать чай и по дороге заглянул к Розочке.
И тут я услышала ее крик. «Стерва, стерва, сука какая, я тут плачу, а она не жалеет меня, не утешает! Ты говорил, надо ее любить, а она не хочет мне помочь, змея фальшивая!» Она роскошно, во весь голос кричала, а потом начала хлопать дверью – громко, сильно, так что побелка сыпалась, она била и била дверью об косяк, потому что не могла ударить меня. Он сказал: «Вот теперь, пожалуй, пора». Я вышла в коридор, припудрила лицо, подкрасила глаза и губы, надела сапоги, куртку, заглянула в комнату и сказала: «Ребята, спасибо за спектакль, стоило бы продавать на него билеты, но чтобы я согласилась на это еще раз, вам, пожалуй, придется мне приплатить».
И больше не приходила к нему, пока они не расстались.
Мы говорили о смерти, мы бесконечно долго говорили о смерти, пока однажды не умерли слова. Впрочем, нет, слова не умерли до сих пор, это последнее, что у нас осталось. Ни событий, ни чувств, только желание произносить слова, называя вещи, которых не существует. Первым умерло межсвидание – это такое долгое счастье, которое сохраняется между встречами. Когда он набирает номер, чтобы сказать, что вернулся домой, что было хорошо, и завтра… А утром он если уже не у моего порога, то звонит, чтобы сказать, что как же все-таки было хорошо… Нет нужды встречаться каждый день, но обязательно все время держать в уме, что вместе нам хорошо. И это длилось так восхитительно долго – годы! – что, казалось, навсегда. Длительные периоды невстреч, когда его не было в городе, ничего не меняли.
И ничего более странного пока не случалось в моей жизни, чем окончание этой близости. Просто началось медленное умирание нашего романа, когда листья желтеют и падают, почти незаметно, но однажды, через две недели, оказывается, что листьев уже нет совсем, голые деревья и пустая обложка.
Мы оба осознавали ситуацию, но неприличная банальность, вроде «мысль изреченная есть ложь», по-прежнему, до изумления неизменно, сбывалась.
Мы испытывали вполне определенные чувства, месяцами убеждаясь в их достоверности («да, точно, точно, нам давно пора разойтись… а может?..» – «нет, точно – все»). И вот наконец, когда приходил момент их озвучить, совершенно формально обозначить словесно то, что уже ясно, тогда… Сначала оказывается тяжело говорить. Физически, до пресечения дыхания, до вполне ощутимых комков в горле – тяжело. Потом, когда все-таки удается, понимаешь, что все продуманные, измысленные слова, прежде чем выйти из уст, по избыточной траектории прошли через сердце и там обрели такой жар, что иссушают горло и губы до трещин. (Выпей воды… и продолжай…) Продолжаешь, со сладострастным намерением наговорить жестоких и честных слов, чтобы увидеть, как он под их весом буквально складывается пополам, пряча лицо и живот, потому что только любившая может столь экономными движениями нанести максимум разрушений… Да, продолжаешь, и оказывается, что по какой-то глобальной несправедливости ты испытываешь все нюансы его боли, и твои тонко заточенные орудия пыток превратились в стыдные, но от того не менее страшные, игрушки мазохиста. И в самом конце, добивающим ударом, когда вы разошлись, из последних сил доброжелательно, пообещав друг другу счастья (без себя), вот тогда тебя – не пулей, не тяжелым тупым предметом, а наилегчайшим прикосновением к плечу – останавливает, пригвождает к месту, замораживает и обжигает понимание, что все изреченное стало ложь.