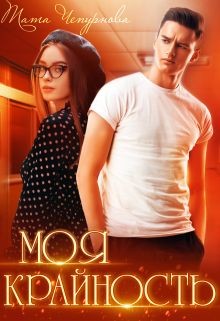Поспешно надеваю шорты, неуклюже застревая в узкой штанине, сильнее психуя, когда непослушные пальцы не могут справиться с молнией. Бегунок то и дело закусывает джинсу, натужно скрипя тканью только я принимаюсь с силой застегивать молнию. Лишь с третьего раза мне удаётся застегнуть замок и натянуть топ, который я не глядя достаю из комода.
Потирая лицо, отправляюсь на кухню, превозмогая закручивающуюся в затылке головную боль.
— Кто вчера был у меня в комнате? — резко спрашиваю я, откуда-то вдруг набравшись жесткости в голосе.
Вид убийственно виноватых глаз, не позволяет мне высказаться теми бранными словами, которые жуткой горечью расползаются во рту. Делаю пару глубоких вдохов, чтобы глубже затолкать негодование и злость, прежде чем продолжить, подходя к столу.
— Я же просила всего об одной простенькой услуге — не входить ко мне в комнату без спроса и в моё отсутствие, — боль стремительно добирается до висков, пульсируя в тех адской барабанной дробью. — Неужели, так сложно? Ма, ну чего молчишь?
Я сбита с толку её дурацким молчание, ведь она всегда либо стыдит меня, либо кидается рьяно оправдывать своего "прихлебателя", никаким другим словом и язык у меня не поворачивается назвать это жалкое подобие мужика. Наклоняюсь, нависнув над матерью в решительной позе и распластав ладони на столе, касаюсь пальцами кружки, на удивление холодной для утреннего кофе. В нос тут же ударяет кисловатый запах и его-то точно не спутать ни с чем. Молодое вино, частый спутник депрессивных вечеров моей родительницы.
Но для утра это уже слишком.
Успеваю перехватить кружку, решительно подношу её к лицу, чтобы втянуть ноздрями ненавистный тяжёлый букет Изабеллы и обличить порок мамы, её слабость и неверие, что жизнь и без алкоголя способна радовать.
— Детка, не надо…
С грохотом и попутными визгами отправляю посудину в раковину, открываю кран, чтобы смыть пурпурное пятно. Жаль также просто не смыть позора, тенью маячившего в нашей семье.
— Клянусь, я брошу.
Слушаю её вполуха, но не потому что давно уже утратила веру в многочисленные клятвы завязать, а потому что шум в ушах не позволяет различать фразы, которые звучат нелепо и коряво, не внушая никакого доверия.
— Сегодня совсем невмоготу, — стоит на своём, бьётся до конца, а мне мерзко от того, в кого она превращается, на какое дно опускает всех нас. — Ри-та-а, — наконец прикрикивает мать, отчаянно хватая меня за руку, пресекая розыскные мероприятия. Мешая из последних сил, но не сбавляя прыти, впрочем, как и я. Уж лучше бы она так боролась с собственной пагубной привычкой, чем с дочерью, чьи намерения отыскать припрятанную заначку, лишь с благой целью, а не в отместку за погром в личных вещах.
Тянусь по инерции к дверце последнего шкафчика, совершенно не ощущая давления пальцев, плотным кольцом сжатых на моём запястье. Такое рвение меня остановить, срабатывает как катализатор: раз не дают открыть шкаф, значит я на верном пути, точно так же как и мама — на пути к алкоголизму. Недаром ведь говорят: "первый признак — выпивка в одиночку."
Осознание полученной пощечины приходит гораздо раньше и самого звука резкого и, хлесткого, содрогнувшего мимолетную тишину. И самой боли, горящей теперь жгучим отпечатком ладони на моей щеке.
— Прости, — понуро опускает голову, пряча взгляд от стыда передо мной. Перед дочерью, которой припечатала всё своё негодование недюжинным ударом.
Глава 10 "Неработающий символ"
Марго
Пытаясь успокоиться, сжимаю губы, выравнивая дыхания и призывая все силы не расплакаться, не обнажить и без того страшный надлом.
— Остановись, мам. Ты же не видишь ничего, горе заливаешь, страх одиночества закрываешь чужим мужиком, — вдруг осмелев, выплевываю давно клокочущие во мне вопли, но даже не чувствуя облегчения от высказанной горькой истины. Жму ладонь к месту удара, будто намеренно скрывая красноватые следы незаслуженного наказания. — Холишь, лелеешь драму, которую давно отпустить пора. Прекрати себя убивать, мам, — еле шепчу, ощущая в горле тот самый неприятный осадок, словно мелкие песчинки, натирая царапают связки, покидая меня вместе с голосом. — И нас с Лёшкой прекрати убивать. Мы все устали… выдохлись.
— Так, а я вас никого не держу. Выход вон там. Идите… дышите полной грудью.
Резко вскидывает руку, указывая на дверь, больше не напяливая скорбно-виноватого выражения на вдруг просиявшее злостью лицо. Достаёт из шкафа спрятанную бутылку и уже без всякой шифровки наполняет бокал, жадно выпивает до дна, в довершении, слизнув последние капли с обветренных губ.
Мгновение спустя, когда оторопь отступает, внутри медленно, но верно начинает закипать гнев и если я останусь, то утилизацией вина наш скандал не закончится. Крупная дрожь бьёт каждый мускул, сокращая тело болезненной судорогой, из-за которой я не могу попасть босыми ногами в кеды и бросив провальную затею, ныряю в открытые сланцы. Закидываю рюкзачок за спину, а в том нехитрый набор, мизерные остатки личных вещей, кое-какое золото, паспорт и телефон. Всё то, что мне приходится постоянно с собой таскать.
Не задерживаясь ни секунды выбегаю из квартиры, конечно если наш проходной двор, с периодическими сборищами местных выпивох можно назвать этим тёплым и уютным словом — дом. Давно нельзя, а я всё чаще прихожу сюда лишь с целью переночевать, потому что не имею возможность снять собственное жильё, а теперь и вовсе остаюсь без денежных средств.
Но дело даже и не в деньгах, а в осознании того, что уйду я — пропадёт и она. Опустит руки окончательно, перестань цепляться за призрачную цель вернуться в нормальную жизнь.
Слёзы давно щиплют глаза и возможно я бы дала им волю, если бы мне не встретилась парочка курильщиков двумя этажа ниже. Сегодня явно не мой день. Кажется, даже уши закладывает от шума собственного пульса. Ну или же у знакомых нет слов при виде моего расстроенного выражения лица.
Мы молчим, глядя друг на друга. Тяжело объяснить необъяснимое, а видеть жалость в Леськиных глазах, и болезненную солидарность с моим незавидным положением в Пашкиных — ещё тяжелее. А думать, что я погрязла в семейной драме с дурным запашком, из которой выход чуть ли не в петлю — невыносимо.
Нервно дёргаю рюкзаком, крепче стискивая пальцами лямки, до их натужного скрипа.
— Падай везунчик, — спрыгнув на ноги, Паша предлагает занять его место, ловко помогая мне снять рюкзак, чтобы тот не мешал сидеть на узеньком подоконнике.
Леська, как обычно курит, аккуратно стряхивая пепел в банку, тогда как Котов обильно посыпает им лестничную площадку. Я пристраиваюсь поодаль от подруги, привалившись спиной к откосу, ощущая даже через ткань топа облупившуюся краску на стене. Дистанция, конечно, меня мало спасёт от сигаретного дыма, так же как и от расспросов, которые уже вертятся на их языках.
— Смотрю набитый четырёхлистник не особо тебе помогает, — еле заметно кивает в сторону моей щиколотки, где красуется трехнедельной давности татуировка, к счастью уже полностью зажившая и не доставляющая дискомфорта, как это делают разговоры с явной подковыркой.
— Гош, тебе съехать с этого дурдома надо, — Леся приободряюще хлопает меня по колену, принимаясь выводить на нём острым ноготком причудливые узоры.
— Точно, переезжай ко мне, — активизируется Паша, сально улыбаясь. — Да и с переездом никаких проблем, хорошо всё-таки быть соседями.
— Котов, ты-то тут причём? — прыскает от смеха Леська, вместе с едким смешком выпуская клуб дыма мимо форточки. — Ты гол, как сокол. Тебя самого нафталиновые бабушки содержат. А нам нужен состоятельный папик.
Изогнув бровь: идеально выщипанную и подкрашенную, она немного манерным жестом поправляет волосы, придавая своему каре небрежно собранному в хвост ещё больший творческий беспорядок.
— В содержанки я не согласна, — словно обжигаюсь этой фразой, но сильней страдая от предложения податься в приживалки.