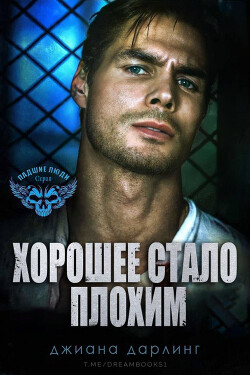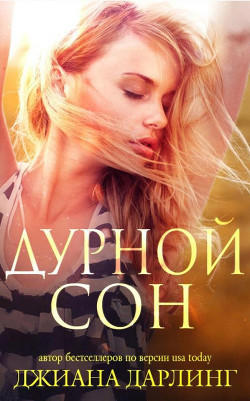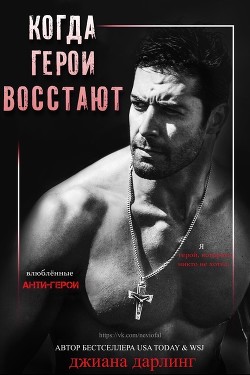За дверью раздался громкий грохот, и мудак-полицейский даже неловко пошевелился от ее оскорбления, но я проигнорировала его и небрежно наклонилась вперед через металлический стол между мной и сучкой-полицейским, чтобы сказать:
— Никто никогда не учил тебя, что женщина не обязана вести себя как мужчина, чтобы быть сильной, не так ли? У нас, женщин, в мизинце больше силы, чем большинство мужчин надеются поиметь за всю свою жизнь. И часть этой силы поддерживает наших сестер, верит им, когда они исповедуются, и поддерживает их, когда они падают. Позор.
Я с удовлетворением наблюдала, как женщина-полицейский менялась, как пробник краски, от розового до ярко-красного.
Затем я продолжила.
— И просто добавлю, что вы и вполовину не так умны, как думаете, если считаете, что я буду встречаться с мужчиной четыре года, когда он бил меня и обращался как с дерьмом последние два года, просто чтобы подождать, пока он, наконец, не попытается изнасиловать меня, чтобы убить его ради улучшения «папиной банды»? Которая, еще раз поправлю тебя, сучка, гребаный клуб любителей мотоциклов.
Я откинулась на спинку стула, стараясь не позволять гримасе боли испортить мою самодовольную ухмылку. Лицо сучки-копа сморщилось так сильно, что выглядело как реклама лекарства от запоров.
— Ты закончила.
Я слегка вздрогнула, хотя смутно осознавала волнение за пределами комнаты. Так же быстро я снова расплылась в своей самодовольной ухмылке, потому что я знала этот голос и знала, что он означает — справедливость, мир, веру — и что он стоит за мной.
Дэннер обогнул стол, как изящество и скрытая сила, как огромная кошка, выслеживающая свою добычу и делающая это смело, потому что скрытность не шла ни в какое сравнение с другими инструментами в его арсенале.
— Отойди, Жаклин. Капитан наблюдает, а ты не хочешь выставлять себя еще большей задницей, чем ты уже это сделала, — сказал он, как только добрался до стервы-полицейского, наклоняясь над столом так, что его лицо нависло над ее лицом.
Из ее горла вырвался шипящий звук раздражения. — Тебе даже нельзя здесь находиться, Дэннер. Ты даже не должен быть на этом чертовом участке, на той должности, на которой ты есть. Тот факт, что ты здесь, чертовски о многом говорит, но не как не об этических принципах в ваших отношениях с мисс Гарро.
— Ты хочешь говорить об этике, когда сидишь и откровенно оскорбляешь жертву гребаного сексуального насилия после того, как ей пришлось забрать жизнь, чтобы спасти свою собственную? — взревел Дэннер, настолько полный ярости, что я забеспокоилась, что он собирается выпустить на каждого своего Халка.
Я потянулась, чтобы зацепить пальцем одну из петель его ремня, и потянула так, что его перекошенное от ярости лицо повернулось ко мне.
— Я в порядке, — сказала я ему низким голосом так, чтобы слышал только он.
Сколько я себя помню, Дэннер и я вместе делили собственное пространство, отдельная частота звука пузырилась вокруг нас, так что только мы понимали друг друга. Теперь она раздулась вокруг нас, близкая и интимная, стирая в прах нашу трехлетнюю разлуку.
— Ты не в порядке, — хрипло возразил он.
Его сильные руки лежали на столе передо мной плоские и жесткие, покрытые венами и мускулами, которые тянулись вверх по каждому толстому пальцу и вокруг каждого широкого запястья. Это были ловкие руки, мозолистые от стрельбы и игры на гитаре, сильные от спорта и все же нежные, как перышко, касающееся моей щеки.
Я положила одну свою руку поверх его на столе и посмотрела в его разъяренные глаза.
— Я буду в порядке. Просто забери меня отсюда. Ты же знаешь, что от копов у меня мурашки по коже.
Юмор просочился сквозь гнев на его лице, как разбитое оконное стекло.
— Я все еще полицейский, ты же понимаешь, Харли?
— О, я знаю, но с такой точки зрения это дьявол, с которым ты знаком, и дьявол, которого ты не знаешь, — сказала я, равнодушно пожав плечами, потому что знала, что это вызовет у него улыбку.
Это произошло, всего лишь легкое движение его губ, но мне этого было достаточно.
— Извините, что прерываю этот интимный момент, — едко сказала сучка-полицейский, — Но мы с ней еще не закончили, и ты не должен рисковать своей задницей, находясь здесь, Дэннер.
Дэннер практически зарычал на нее, и я подумала, были ли это последние три года, которые сделали его диким, или тот факт, что меня чуть не изнасиловали.
Это не имело значения. Лайонел Дэннер, которого я знала, теперь был лишь позолоченной рамкой вокруг того человека, которым он стал, и я почувствовала, что он был намного, намного темнее, чем тот, что был раньше.
— Вы закончили, если вам нужно продолжение, то завтра вы свяжетесь с мисс Гарро. Она все еще в крови этого абьюзера, Жаклин, прояви немного сочувствия.
Сучка-полицейский открыла рот, чтобы выплеснуть еще яда, но симпатичный полицейский рядом с ней сдерживающе положил руку ей на плечо и покачал головой.
— Дэннер прав. Пусть девочка умоется и отдохнет. Завтра мы можем позвонить ей домой.
Ее глаза вспыхнули, но потом она посмотрела через плечо на одностороннее зеркало, и я поняла, что она помнит, что Дэннер сказал про капитана, наблюдающего за ней.
— Пойдем, пока у меня не началась сыпь, — пробормотала я Дэннеру, сжимая его одеревеневшую руку в своей, и направилась к двери.
Я отчаянно пыталась быть беззаботной, прятаться за титановой оболочкой колкого юмора и фальшивой уверенности, но я родилась преступницей, и стены полицейского участка сжимались вокруг меня.
И я не могла позволить себе эту слабость, не тогда, когда моя семья, определенно, собралась в передней комнате полицейского участка, контролируя свою жестокую ненависть перед законом, чтобы увидеть меня как можно скорее. Мне нужно было закрыть чертовы дыры, запереть клетку, которая билась как дикое существо в моей груди. Я чувствовала, как оно вгрызается в мое сердце, царапает твердыми острыми зубами и вырывает большие, окровавленные куски, но я не вздрогнула, пообещала себе, что не буду дрожать.
По крайней мере, до тех пор, пока я не осталась одна, изолированная в доме моего отца, как в сейфе мотоклуба подобно Рапунцель в металлической башне, защищенном толстой цепью.
— Рози, — прервал Дэннер мои мысли перед тем, как я успела спуститься по лестнице.
Я зажмурила глаза от боли от этого ласкового имени и глубоко вздохнула, прежде чем сказать:
— Да?
Он осторожно потянул меня за руку, и я повернулась к нему лицом. Его лицо было душераздирающе красивым, суровые черты смягчились от боли и беспокойства, глаза такие зеленые, что они светились на фоне золотистого загара и густых карих ресниц. Я тяжело моргнула, а затем отвернулась, злясь на себя за то, что он так легко может овладеть мной. Крепкие пальцы сжали мой подбородок, слегка откинув голову назад, так что я была вынуждена посмотреть ему в лицо. Его взгляд пробежался по каждому уголку моего лица, подробно очерчивая каждый шрам, каждый угол, плоскость и изгиб моего лица. Мне было интересно, сопоставляет ли он реальность с памятью, выгляжу ли я иначе, чем три года назад. На моей левой скуле был шрам, прямо под глазом, где одно из колец Крикета проткнуло кожу, и еще один в правом нижнем углу моей нижней губы, где мой зуб поцарапал кожу, когда я упал на землю во время одного из его приступов ярости. Одна рука легла на мою левую щеку, его большой палец провел по небольшому шраму, в то время как большой палец другой провел по моему рту, растягивая его и надувая губы.
Слезы выступили у меня на глазах, хотя я пыталась успокоиться короткими неглубокими вдохами. — Остановись, — выдохнула я.
Он проигнорировал меня, его черты стали жесткими, как металл, и слились с жаром его ярости и холодом его боли. Он наклонился к моему лицу и тихо сказал в мой приоткрытый рот, надеясь накормить меня словами так, чтобы я могла легко их переварить.
— Я хочу извиниться, но как я могу, если нет слов, способных стереть то, что с тобой сделали? Знаешь, я человек действия, а не слов, Рози, и, черт возьми, если бы я мог, я бы вытащил этого ублюдка из мертвых и написал бы для тебя поэму на его теле своими кулаками и его кровью. И ты знаешь, что я вне религии, но, черт возьми, для тебя я бы каждый день искуплял свои грехи поркой, писал строки, пока мои пальцы не онемели и не сломались, самобичевал, пока меня не изуродовали, если бы это означало забрать у тебя эту боль, это воспоминание и особенно мое участие в этом.