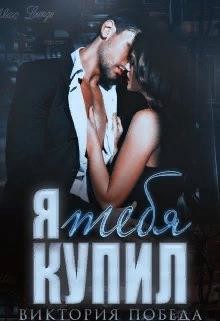— расставь пошире ножки, вот так, еще малышка.
Я, словно в каком-то трансе, выполняю его указания, расставляю ноги, позволяя себя разглядывать, выставляя себя напоказ. И все это так пошло, так откровенно и до ужаса горячо. Я дышу часто, поскуливаю от легких, едва ощущаемых прикосновений пальцев к разгоряченной, ставшей слишком чувствительно плоти.
— Пожалуйста…
— Что пожалуйста, детка?
Я сама не знаю, о чем прошу. И сейчас я готова прибить Волкова, за то, что мучает меня, за то, что явно издевается. И поглаживания его эти легкие меня с ума сводят, превращая одичалую, спятившую самку, пробуждая во мне самые низменные инстинкты.
И когда мне кажется, что хуже уже быть не может, я чувствую прикосновение горячего языка и стону, не в силах сдерживаться.
— Боже.
И в ответ на свой стон слышу, как Волков удовлетворенно хмыкает, довольный собой. Сволочь! Гад! Но как же хорошо, как охренительно приятно чувствовать его скользящий между губ язык. Он уничтожит, просто размажет меня этими порочными, до невозможности горячими ласками. И сквозь окутавшее меня безумие, я слышу, как Егор витиевато ругается, лишь на долю секунды оторвавшись от своего занятия.
— Мокрая, моя девочка, блядь, Александровна, ты нереальная, ты знаешь, и моя.
— Егор, — вскрикиваю, чувствуя, как в меня проникают пальцы.
— Горячая моя девочка, — он бормочет жарко, слегка причмокивая, и пальцами вытворяя нечто такое, отчего я начинаю чувствовать себя текущей, похотливой самкой.
И мне становится совершенно плевать на то, как все это выглядит, на то, как выгляжу я, потому что довольное урчание и пошлости, срывающиеся с губ Егора, пробуждают во мне какую-то незнакомую, темную сущность.
И да, я начинаю стонать, и практически готова его умолять не останавливаться, просить еще и еще.
Мне мало, мне безумно мало того, что сейчас между нами происходит, я хочу больше, хочу чувствовать, ощущать его полностью, в себе, ощущать полностью своим.
А он дразнит меня, точно угадывая мое состояние, точно зная, чего я хочу, и не дает, останавливаясь каждый раз, когда я оказываюсь на грани.
— Волков, я тебя сейчас придушу, — я не узнаю свой голос, это протяжное шипение, словно не я это, словно за меня говорит та самая сущность.
— Тихо, куда ты спешишь, малышка, у нас столько времени впереди.
Он посмеивается, жестко фиксирует меня за бедра, и снова проводит языком по влажной, раскаленной до предела плоти.
И теперь уже из моих уст летит нецензурная, вообще мне несвойственная, брань. Кажется, я успела нахвататься у этого мучителя безжалостного.
— Егор, я не могу больше, пожалуйста, — я впиваюсь ногтями в диван, совершенно не думая о том, что могу повредить гладкую, абсолютно новую поверхность.
— Нетерпеливая моя девочка, — он шепчет хрипло, отстраняется.
Я слышу возню позади себя, звон пряжки ремня, а потом чувствую такое приятное и нужное мне сейчас давление между ног. — Расслабься, расслабься, малышка.
Я сжимаюсь, просто потому что он большой, очень большой, во всяком случае по моим мерками и относительно моего, весьма и весьма, скромного опыта.
Егор толкается в меня, скользит медленно внутрь, продляя мою агонию. Это просто потрясающее, восхитительное ощущение. Но медленно, все так медленно, а я не могу больше, мне хочется быстрее, сильнее, резче! И я практически подмахиваю сама, чтобы заставить его двигаться, заставить войти полностью, до упора, мне это просто жизненно необходимо.
А он, скотина такая! Он продолжает посмеиваться, хрипло шепчет какие-то порочные нелепости.
— Не спеши, малыш, дай мне тебя почувствовать, ты такая сладкая, моя, блядь, я все еще не могу поверить, что ты только моя.
И я! Я тоже не могу поверить, не могу поверить в то, что в такой момент у него хватает сил говорить! Раньше я за ним такой вот разговорчивости не замечала, он просто брал меня, заставляя вгрызаться зубами в подушку и глушить рвущиеся наружу истошные крики.
И я умирала, каждый раз, каждую ночь умирала под ним и воскресала вновь, не веря в происходящее.
Воспоминания о жарких, наполненных страстью и похотью ночах, проведенных с Волковым, заводят меня сильнее прежнего, и я больше не могу себя контролировать, начинаю двигаться, сама насаживаюсь на его внушительный орган.
— Бляяяя, ну что ж ты делаешь? — Егор стонет гортанно, хрипит практически, пальцами больно сжимает мои бедра и завтра на них наверняка появятся следы нашей внезапной страсти. И мне плевать. Совершенно на все плевать!
Хватка усиливается, он фиксирует меня на месте, и все что я могу — обессиленно мычать что-то нечленораздельное, проклиная Волкова и одаривая его всеми известными мне, совсем нелестными эпитетами.
А потом он делает резкое движение и входит в меня полностью. Так как надо, так, как я хочу!
— Дааааа, черт, боже, даааа…
— Вот так, вот так ты должна кричать, Александровна, кричи, детка, мне охренеть, как нравится слушать эту песню…
Он выходит практически полностью и прежде, чем мне удается хоть как-то возмутиться, с силой загоняет в меня свой член, вынуждая меня кричать так громко, так оглушительно, что, наверное, меня вся округа слышит, и потом мне будет очень стыдно, но это будет потом.
А Егор продолжает двигаться, резко, причиняя легкую и такую сладкую боль. И меня просто прошибает удовольствием, разрывает на части от неземного, неземного, неописуемого наслаждения.
И я кричу, так пошло, развратно, грязно…
И последнее, о чем я думаю перед тем, как провалиться в пучину порока — это то, что я погрязла в этом мальчишке целиком и полностью, и уже не выплыву не освобожусь…
Житейские будни
Егор
Я смотрю на нее, такую измотанную, уставшую. Ксюша лежит неподвижно, только плечи немного подрагивают при каждом новом вдохе. Кажется, уже засыпает. Она такая красивая, в этом приглушенном свете ночника. Нет, она у меня вообще красивая, это не обсуждается даже, но сейчас особенно.